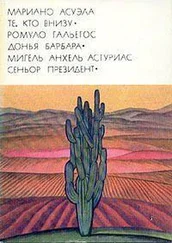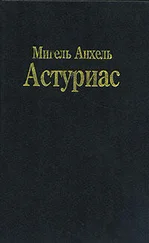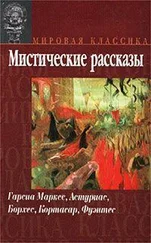— Трясина уже недалеко…
— Недалеко…
— И луна скоро выйдет…
— Выйдет…
— Что ты, гад, все повторяешь за мной?!
— По уставу положено, сеньор полковник.
— А, чтоб тебя, циновка ты драная! Сколько при мне, а не знаешь моих правил! Начальству эти глупости ни к чему. Словечки нужны для баб. Зубрите вы в училищах устав и выходите — сами как бабы. Мне и даром не надо попа с катехизисом, музыканта с нотами и военного с уставом. Так и помни, а то у меня не выслужишься. Вера — одно, музыка — Другое, военное дело — третье, а они тем похожи, что главное тут нюх. Кто их знает, тот знает, а кому не дано — не поймет. Эй ты, пошел! — подогнал он коня и продолжал: — Черт те что, а не конь… Значит, я говорю: и катехизис, и ноты, и устав выдумали Для тех, кто и сам толком не знает, к чему способен, а лезет Мессу служить, петь там или командовать. Научили, а нюху нет. Военное дело — самое тонкое, тут надо врага предупредить, обойти, тут свои законы. Я в нем собаку съел и всем покажу, хотя в жизни не учился!
Они выехали на вершину. Ярко-красная луна горела, как жаровня. Всадники и кони стали похожи на распластанных в полете крабов. В глубине долины виднелись извивы реки, деревья в зеленых искрах птиц и невысокие пригорки.
— Лейтенант Мусус! — крикнул полковник, когда они, один за другим, въезжали со склона на вершину, где светил, словно сквозь марлю, слабый двойной свет. — Равнение направо! На луне — бой!
Секундино увидел над горизонтом огромный кровавый диск и ответил:
— Леса тут жгут, сеньор полковник, вот она и красная. Если бы не жгли…
— Разговорчики! Сказано — равнение направо! Совсем рассиропились! Отдай честь луне, — вовремя оборвал его полковник.
Лейтенант обиделся, но, поскольку начальник считал, что без толстой шкуры нет военного, приложил руку к шляпе, отдавая честь луне, и поспешил ответить:
— Когда много дыму, сеньор полковник, нам видно, как будто луна в крови. Как будто раненые там, бой идет… — говорил он, не вдумываясь в слова, потому что увидел вдалеке длинную цепь деревьев, извивавшуюся меж холмов. Это место и звалось Трясиной.
Дубленое лицо дона Чало расплылось в улыбке. Больше всего на свете он любил поговорить о военных делах.
— А мне это все нравится, — сказал он, уже не сердясь на лейтенанта. — Увидишь огонь в такой час — и как будто воюешь. Хворост трещит, словно пули свистят, дым валит, сверкает что-то, как бы пушки стреляют, где займется огонь — будто люди идут в атаку, ветер — они пригнутся. Ты вникни, я тебе разъясняю. Когда выжигают лес — это как партизанская война. Мы на него отсюда, а он оттуда идет. Ну а с партизанами воевать — как играть с огнем. Почему я победил Гаспара Илома? Потому что с детства прыгал через костры в Иванову ночь и в канун Непорочного зачатия. Хитрый он был, гадюка…
— Вам виднее, сеньор полковник.
— Не сразу угадаешь, а он ведь умный был. Ум у него играл, как огонь в лесу. Надо потушить, а как его потушишь, когда этот Гаспар от роду воин?
— Вам виднее, сеньор полковник…
— Ты не думай, я правду говорю. Сам видел: он дерево свалил взглядом, одним взглядом свалил, такая была сила, взял его, как метлу, и весь мой отряд смел, как мусор, — и людей, и коней, и оружие.
— Вам виднее, сеньор полковник…
— Не знаю, правда или нет, — сказал дон Чало, глядя на дорогу, которая вела к Трясине меж камней и сухих, сожженных листьев, — а слышал я одно предание. Вот тут, где мы едем, на этих холмах, остановился тот, кто помешивает ложкой землю, хотел сменить воду горам, своим рыбкам, а Хуракан и спугнул холмы, которые Кабракан нес в ад продавать, спугнул их, как ос, и они с тех пор видны до самого моря.
— Видны, сеньор полковник…
— Холмы хотели вернуться в мешок к Кабракану. Холмы — это осы. Тянет их обратно. А ветер морской все дует, не пускает их. Овраги — это дырки в сотах, холмы испугались, взлетели, а дырки остались. Каждая оса одну дыру оставила.
Кони начальника и адъютанта двигали ушами смотря по тому, какие звуки шли от Трясины в тесноте холмов, в спиралях обрывов, где гулко отдавался ветер, шумевший в соснах. Когда навстречу катились глухие, однообразные звуки, конь поднимал уши. Когда звуки ползли по земле восьмерками, конь плотно прижимал уши к голове. Когда птицы шумели в ветвях, мелькали во тьме, цечально били крыльями, а всадники, ехавшие почти рядом, перекликались, словно их разделяла река, конь поднимал одно ухо и прижимал другое.
— Ско-олько я тут езди-и-ил, — кричал Мусус, — а все стра-а-ашно!
Читать дальше