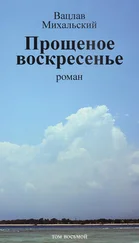Если при жизни Шиллера оба поэта противостояли романтизму, то со смертью друга Гете остался в одиночестве, когда романтизм стал господствующим литературным направлением. На эти годы приходится последний период его творчества и теоретических раздумий в области литературы и искусства.
Как уже сказано, он возвращается к кумиру своей молодости — Шекспиру. Статья «Шекспир, и несть ему конца!» (1813–1816) имеет в виду не столько объективную характеристику английского драматурга, сколько полемику с романтизмом, с его односторонностью. Романтики связывают искусство с религией, тогда как Шекспир, по Гете, верил в благость природы и развивал «свою чистую внутреннюю религиозную сущность, не считаясь с какой-либо определенной религией». Против романтиков направлена и характеристика основных типов драмы: античной, шекспировской и современной, или романтической. Здесь основным критерием для Гете является человек в его отношении к миру. У него это выражено в рассуждении о долженствовании и воле. «Древняя трагедия построена на неизбежном долженствовании», — утверждает Гете, понимая под этим господство нравственных и гражданских законов. Долженствование направлено к благу целого, то есть служит поддержанию определенного порядка, а этот последний якобы тождествен законам природы. Здесь нетрудно распознать характерную для Гете точку зрения, отвергающую катаклизмы: законом жизни, по его мнению, является органический рост.
Воление — «свободно и споспешествует отдельным личностям», утверждает Гете, оно составляет основу романтической трагедии; «долженствование делает трагедию великой и мощной, воление — слабой и мелкой». Современная трагедия вырождается в драму; она идет на помощь человеческой слабости, льстит ей: «Мы чувствуем известную растроганность, когда после мучительного ожидания под конец получаем жалкое утешение». По-видимому, Гете имеет здесь в виду мелодраму, и острие его иронии метит в популярного тогда Августа Коцебу, типичного мещанского писателя.
Шекспир не ограничивается одним долженствованием, но не дает превосходства и волению. В его трагедиях они стремятся к равновесию; «оба ярко схватываются, но всегда так, что воление остается внакладе». У Шекспира «каждая личность, рассматриваемая с точки зрения характера, долженствует; она стеснена и предназначена к чему-то исключительному, но, рассматриваемая как личность человека, изъявляет свою волю, не ограничена и взывает ко всеобщему». Здесь, по существу, дается характеристика драматургического метода самого Гете, которая вполне приложима к «Ифигении», «Торквато Тассо» и особенно к «Фаусту».
В своей статье Гете утверждает, будто Шекспир прежде всего поэт, создавший весьма драматичные произведения, но будто бы недостаточно пригодные для сцены. Это верно лишь постольку, поскольку театр конца XVIII — начала XIX века был мало приспособлен для того, чтобы передавать динамику действия Шекспира с частыми переменами декораций. Но при этом Гете ошибочно недооценивает значение внешнего действия в драмах Шекспира. Едва ли верно также утверждение Гете, что Шекспир «ставит в центр пьесы известную идею и заставляет служить ей весь мир и всю Вселенную», но в отношении самого Гете и особенно его «Фауста» это, безусловно, так!
И, наконец, когда мы читаем, что в пьесах Шекспира «одушевленное слово преобладает над чувственным действием», то становится совершенно ясно, что так поданный Шекспир, по сути, равнозначен Гете. Это не значит, что Гете не уловил особенностей драматургии Шекспира: многое им подмечено верно и впервые; но, характеризуя драматургический метод Шекспира, Гете выявляет в нем то, что близко ему самому и в большей степени присуще его драмам, чем Шекспиру. То же самое можно обнаружить и в некоторых других теоретических суждениях Гете, в частности, в его «Примечании к «Поэтике» Аристотеля» (1827), в котором Гете касается пресловутого вопроса о природе катарсиса, очищения, оказываемого трагедией на души зрителей, и, приводя примеры из Софокла, имеет в виду прежде всего то, что волнует его в собственном его творчестве.
Возврат к Шекспиру отражает отход Гете от принципа классической гармонии и безусловной красоты, господствовавшего в его эстетике в предыдущий период. Теперь для Гете важно не единство, а многообразие мира. Об этом он много говорит и в своих статьях об изобразительном искусстве. Разбирая сочинение Джузеппе Босси «О «Тайной вечере» Леонардо да Винчи» (1817), Гете ставит в заслугу великому итальянскому живописцу то, что он «обладал способностью вбирать в себя самые разнообразные и изменчивые явления». Леонардо, подчеркивает Гете, изучил гармоническое телосложение, но в то же время внимательно наблюдал и все отклонения от этой нормы, вплоть до уродства, а также все внешние проявления эмоций — «от радости до бешенства, которые должны быть запечатлены на лету, ибо они мимолетны и в жизни». Как это далеко от прежнего идеала «благородной простоты и спокойного величия».
Читать дальше