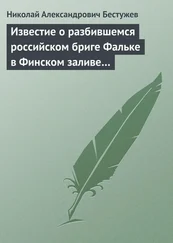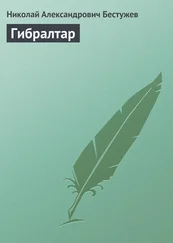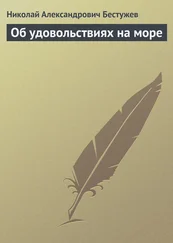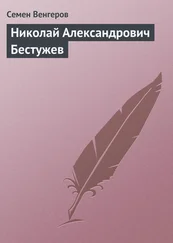Я взял бумагу из трепещущих рук старца и про себя читал следующее:
…
«Милостивый государь!
Кто бы вы ни были, человек или чудовище, но если в самом деле дали мне жизнь, то я должен вас ненавидеть. И какую жизнь дали вы мне? Без семейства, без отца, без доброго имени. Кто убил мать и сына сделал не человеком, не дав ему ни имени, ни нравственности, тот сам не заслуживает имени отца. Прощайте! Я никогда вас не увижу!..»
Я видел, как глаза старика следовали за движениями моих глаз и как черты лица его и движение руки выражали значение каждой строчки, каждого слова, вытвержденного им наизусть; наконец он не вытерпел напряжения чувств: глаза его налились, он закрыл себе лицо и долго рыдал, не могши вымолвить ни одного слова.
«Моя история кончилась, — начал он, успокоившись, — какой случай разительнее этого могу рассказать я? Я не видал и не слыхал более о моем сыне. Несчастный, отчаянный, терзаемый раскаянием, тридцать лет после сего влачу тяжкую и презрительную жизнь. Мучимый совестию человек похож на того, кто осмелился пристально поглядеть на солнце: он после беспрестанно видит перед глазами, куда ни оборотит их, черное пятно. Это пятно ложилось на все мои мысли, на все дела, на все мои поступки, и меня, пораженного проклятием неба, дряхлость постигла в сем положении. Я не мог выходить из комнаты, не мог ни о чем заботиться. Родственников у меня нет, и люди мои, употребляя во зло слабость и невнимательность, обманывали меня безнаказанно, потому что меня ничто не тревожило более. Однако же мысль о том, что у меня, может, есть сын, заставила подумать о приведении в порядок дел своих. Я перевел свое имение на деньги, положил в банк с условием, если чрез 20 лет не найдется мой наследник, то употребить капитал на богоугодные дела. Одна надежда увидеть когда-нибудь сына и попросить у него прощения подкрепляла меня. Таким образом, живучи процентами, для избежания несносной скуки, меня подавляющей, нанял я комнату в этом трактире, и, чтобы не совсем раззнакомиться с видом людей, заставляю вывозить себя к лестнице.
Итак, ты видишь, друг мой, что приятная жизнь, честная служба, счастие семейственное, удовольствия общества для меня не существовали: они были сном, идеалом, к которому стремилась душа моя, и вместо блестящего удела, который обещали мне богатство и те дары, которыми щедро наделила меня природа, осталось мне только горестное утешение сидеть у лестницы и смотреть на прохожих, которые часто, смеясь над участью старого холостяка, беспрестанно возобновляют мучительную казнь моего сердца.
Впиши мою историю в свой журнал, молодой человек, — продолжал он, — может быть, когда-нибудь случится тебе сделать из нее полезное употребление».
Он перестал; горькие слезы катились по щекам его. Мы расстались безмолвно.
На другое утро он был очень слаб, когда я, выходя поутру, приветствовал его, по обыкновению, у лестницы. Возвращаясь в полдень домой, снизу еще увидел я около него толпу людей, которые очень горячо о чем-то рассуждали. Пораженный предчувствием, я взбежал вверх в несколько скачков: он сидел, опершись и закрыв лицо левою рукою, сквозь пальцы которой еще блистали слезы; правая лежала на сердце… но оно уже не билось… Несчастный кончил свою страдальческую жизнь…
…
1826
…мне надо было остановиться на несколько дней в Копенгагене… — в Копенгагене Н. Бестужев был в 1815 году («Записки о Голландии»).
Торвальдсен Бертель (1768 или 1770–1844) — датский скульптор.