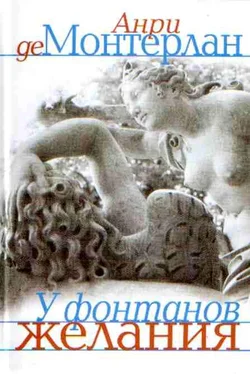25 октября 1917 года, посетив Лувр во время увольнительной, я записал свои впечатления в блокнот (впоследствии эти строки будут напечатаны):
«Лувр. Я просто болен от такого скопления красоты. Меня лихорадит, я весь в поту и вдруг чувствую ледяной озноб: не было бы бронхита (так). Я так дрожу, что трясется витрина, к которой я прислоняюсь.
Нет, я ни за что не смогу постичь все в одно мгновение. Ни за что не смогу в одно мгновение охватить умом все возрасты людей, все наслаждения людей, все грани человеческой красоты.
Мучительное чувство обделенности. Мне всегда будет чего-то недоставать. Даже если бы я смог завладеть всеми произведениями искусства, какие вижу здесь, на свете есть еще и другие, и они никогда не будут моими. Болезненная потребность сплавить все воедино — переживать все заново. Я растерялся и чувствую себя несчастным.
Выйдя отсюда, я ощутил потребность в физическом удовольствии и выпил кружку пива, просто чтобы на секунду испытать удовлетворение…»
Ах, как это на меня похоже! Вплоть до кружки пива десятилетней давности, перекликающейся с лимонадом «затравленного скитальца». Лучшее лекарство — ощущение, причем самое доступное и простое. То cure the soul by the senses (Лечить душу ощущениями (англ.).). Сегодня я обращаю особое внимание на слова «постичь» и «завладеть»: они ясно показывают, что чувство обделенности было двойственным — я жаждал одновременно обладания интеллектуального и материального.
Через несколько дней, снова побывав в Лувре, я написал о богах-животных:
«Лувр. Я чувствую себя равным в компании этих чудовищных богов (ассирийских, финикийских и пр.). Они мне как приятели. Я для них свой. Даже чересчур свой, я чуть ли не пугаюсь самого себя».
Полагаю, никто не усмотрел здесь прообраза «Бестиариев».
Ответственность. — Написав это, я через некоторое время нашел в личном дневнике Рене Буалева(Буалев Рене (1867–1926) — французский прозаик и поэт, автор нескольких романов о провинциальной жизни, написанных в традиционной, классической манере) (за 1903 год) запись, посвященную «Воскресению»:
«Чувство ответственности, о котором в наши дни человек призван помнить постоянно, напрочь лишает нас инициативности и предприимчивости. Это нельзя считать проявлением моральной высоты или прогрессом в области морали: это просто моральное бессилие… Мне больше нравится дерзкая беспечность наших отцов, особенно в любви. Разве любовь нельзя назвать благом? А сделать девушке ребенка, несмотря на все неприятности, могущие от этого произойти, — разве это не похвально?.. Любовь — это стихийная сила. Она должна быть такой. Попытаться сдержать ее натиск — все равно что бороться против солнца».
Довольно-таки смело для академика, не правда ли? Однако если люди неправы, пытаясь сдержать натиск любви, то не потому, что любовь подобна солнцу: это несколько туманно. Люди неправы вот почему: когда натиск любви пытаются сдержать, она причиняет больше бед, чем если бы ей дали полную волю; я убежден в этом. Приходится слышать рассуждения о «свободной любви», но нам ведь известно, что «свободная любовь» — все же мещанское понятие, что в XX веке не существует свободной любви. Но ее время еще настанет.
В одном из монастырей Севильи я видел посмертную маску Мигеля де Маньяра, и меня поразило ее сходство с прекрасным лицом Буалева в последние годы жизни. Дон Жуан! Буалев говорил мне, что не может высказать сокровенное, потому что состоит во Французской Академии. Печально, если принадлежность к Академии мешает людям свободно выражать свои мысли: статус академика должен был бы прибавить им смелости и дать возможность наконец-то высказаться свободно. Подобные замечания (а я слышал их от Буалева не один раз) показывают, что личность его была масштабнее, чем творчество: он не позволял себе лишнего как до приема в Академию, чтобы не напугать ее, так и уже будучи принятым, чтобы не уронить ее авторитет. Словом, каждый раз он находил повод, чтобы затыкать себе рот.
В этой записи есть и еще одна любопытная деталь. Он говорит, что любовь нельзя сдержать, и что ее не следует сдерживать. Выходит, если бы у Буалева была дочь, и я сделал бы ее матерью, ее отец ничего не имел бы против? Как-то не очень верится. Что тут скажешь? Если человек робок в мыслях, он внушает мне большее уважение, нежели тот, кто дерзок в мыслях, но робок на деле. Однако хочется подчеркнуть, что мы вовсе не осуждаем Буалева. Мы ведь не знаем, как бы он себя повел.
Читать дальше