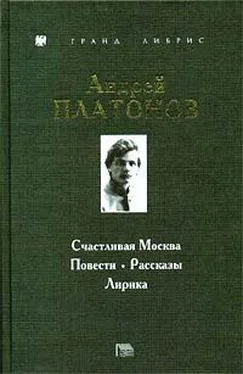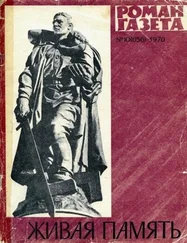Божко неотлучно, до нового светлого утра глядел и глядел на Москву, когда девушка давно уснула в его комнате, — и сонная, счастливая свежесть, как здоровье, вечер и детство, входили в этого усталого человека.
На другой день Москва пригласила Божко на аэродром — посмотреть работу новых парашютов.
Небольшой аэроплан взял к себе внутрь Москву и полетел высоко в вековое пустынное небо. В зените аэроплан приостановил мотор, наклонился вперед и скинул из-под своего туловища светлый комочек, который без дыхания понесся в бездну. В то же время невысоко над землей медленно летел другой аэроплан и, сбавив работу трех своих моторов, желал посадки. На низкой высоте, над этим трехмоторным парящим самолетом, одинокое воздушное тельце, беззащитно мчавшееся с нарастающим ускорением, распустилось в цветок, надулось воздухом и закачалось. Трехмоторный самолет сразу пустил все свои машины, чтобы уйти от парашюта, но парашют был слишком близок, его могло втянуть под винты в вихревые потоки, и умный пилот снова погасил моторы, давая парашюту свободу ориентации. Тогда парашют опустился на плоскость крыла и свернулся, а через несколько мгновений по накренившемуся крылу медленно и без испуга прошел небольшой человек и скрылся в машине.
Божко знал, что это прилетела из воздуха Москва; вчера он слышал ее равномерное, гулкое сердце, — теперь он стоял и плакал от счастья за все смелое человечество, жалея, что давал Москве Честновой в течение двух лет сто рублей в месяц, а не полтораста.
Ночью Божко опять, как обыкновенно, писал письма всему заочному миру, с увлечением описывая тело и сердце нового человека, превозмогающего смертельное пространство высоты.
А на рассвете, заготовив почту человечеству, Божко заплакал; ему жалко стало, что сердце Москвы может летать в воздушной природе, но любить его не может. Он уснул и спал без памяти до вечера, забыв про службу.
Вечером к нему постучался кто-то и пришла Москва, счастливая по виду, как постоянно, и с прежним громким сердцем. Божко робко, от крайней нужды своего чувства, обнял Москву, а она его стала целовать в ответ. В исхудалом горле Божко заклокотала скрытая мучительная сила и он больше не мог опомниться, узнавая единственное счастье теплоты человека на всю жизнь.
Каждое утро, просыпаясь, Москва Честнова долго смотрела на солнечный свет в окне и говорила в своем помышлении: «Это будущее время настает», и вставала в счастливой безотчетности, которая зависела, вероятно, не от сознания, а от сердечной силы и здоровья. Затем Москва мылась, удивляясь химии природы, превращающей обыкновенную скудную пищу (каких только нечистот Москва не ела в своей жизни!) в розовую чистоту, в цветущие пространства ее тела. Даже будучи сама собой, Москва Честнова могла глядеть на себя, как на постороннюю, и любоваться своим туловищем во время его мытья. Она знала, конечно, что здесь нет ее заслуг, но здесь есть точная работа прошлых времен и природы, — и позже, жуя завтрак, Москва мечтала что-то о природе — текущей водою, дующей ветром, беспрерывно ворочающейся, как в болезненном бреду, своим громадным терпеливым веществом… Природе надо было обязательно сочувтвовать — она столько потрудилась для создания человека,
— как неимущая женщина, много родившая и теперь уже шатающаяся от усталости…
По окончании школы воздухоплавания Москву назначили младшим инструктором при той же школе. Она теперь обучала группу парашютистов способу равнодушного прыжка из аэроплана и спокойствию характера при опускании в гулком пространстве.
Сама Москва летала, не ощущая в себе никакого особого напряжения или мужества, она лишь точно, как в детстве, считала, где"край», т.е. конец техники и начало катастрофы, и не доводила себя до «края». Но «край» был гораздо дальше, чем думали, и Москва все время отодвигала его.
Однажды она учавствовала в испытании новых парашютов, пропитанных таким лаком, который скатывал прочь влагу атмосферы и позволял делать прыжки даже в дождь. Честнову снарядили в два парашюта — другой дали в запас. Ее подняли на две тысячи метров и оттуда попросили броситься на земную поверхность сквозь вечерний туман, развившийся после дождей.
Москва отворила дверь аэроплана и дала свой шаг в пустоту; снизу в нее ударил жесткий вихрь, будто земля была жерлом могучей воздуходувки, в которой воздух прессуется до твердости и встает вверх — прочно, как колонна; Москва почувствовала себя трубой, продуваемой насквозь, и держала все время рот открытым, чтобы успевать выдыхать внизывающийся в нее в упор дикий ветер. Кругом нее было смутно от тумана, земля находилась еще далеко. Москва начала раскачиваться, не видимая никем из-за мглы, одинокая и свободная. Затем она вынула папиросу и спички и хотела зажечь огонь, чтобы закурить, но спичка потухла; тогда Москва скорчилась, чтобы образовать уютное тихое место около своей груди, и сразу взорвала все спички в коробке, — и огонь,схваченный вихревою тягой, мгновенно поджег горючий лак, которым были пропитаны шелковые лямки, соединявшие тяжесть человека с оболочкой парашюта; эти лямки сгорели в ничтожное мгновение, успев лишь накалиться и рассыпаться в прах, — куда делась оболочка, Москва не рассмотрела, так как ветер начал сжигать кожу на ее лице вследствие жесткой, все более разгорающейся скорости ее падения вниз.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу