Вспомнив про речку, обязательно вспомнишь и прорубь: «В круглом окошке днем стекло разбито, ночью опять цело». И если после всего этого спросить: «А что вверх корнем растет?» — может быть, и найдется такой остроумец, который догадается, что это сосулька.
«А какую траву и слепой знает?» — спросит бабушка внука, заранее зная, что спустя какое-то время раздастся восторженный крик: «Крапиву!» Загадка про петуха — «Дважды родился, ни разу не крестился, а первый на свете певчий» — могла заставить работать фантазию взрослого человека. Такая загадка, как: «Через корову да через березу свинья лен волочит», — могла родиться только в профессиональной, в нашем случае сапожнической, среде. Загадка: «Два братца одним пояском подпоясаны» — имеет смысл только на русском Севере, где в основе изгороди два кола, перевиваемые лозой.
Некоторые загадки звучат пословицами, и, наоборот, многие пословицы вполне могут быть использованы как загадки.
Распространены были и загадки двусмысленные, по звучанию чуть ли не непристойные. Неприличная форма в таких загадках как бы смягчалась нравственно полноценным смыслом.
Шуточные загадки («Сидит кошка на окошке, и хвост как у кошки, а не кошка») сменялись отгадыванием целых шарад и задач из чисел:
«Летели полевики, и надо им сесть поклевать. Если они сядут по два на две березы, одна береза останется, а если по одному, то одному полевику деваться некуда. Сколько летело птичек и сколько берез стояло?»
Герои и персонажи народных сказок также нередко загадывали друг другу загадки.
ПРОЗВИЩА.Отделить стихию словесную от бытовой невозможно, они неразрывны, они составляют единое целое. И лучше всего иллюстрируют это единство прозвища…
Насмешливый, сатирический оттенок этого фольклорного жанра вызывает у темпераментного человека бурный и совершенно напрасный протест: прозвище закрепляется за ним еще прочнее. Бывали случаи, когда люди переезжали в другую волость, чтобы избавиться от прозвища, — тоже напрасно! А один умник решил однажды перехитрить всех, придумал себе новое (разумеется, более благозвучное) прозвище и тайком начал внедрять его в жизнь, надеясь таким путем избавиться от старого. Увы, из этого ничего не вышло, прежнее прозвище оказалось более жизнестойким.
Подобный опыт для умного человека не оставался втуне. Самоирония — всегдашний признак более развитого ума. Юмор глушил обиду, а иной раз и совсем освобождал человека от клички. Так, мужичок, получивший в наследство прозвище «Балалайкин», заканчивая выступление на колхозном собрании, спросил: «Еще потренькать, аль на место сесть?» Таких людей уважали, а уважаемого человека даже и за глаза называли по имени-отчеству. Юмор, ограждающий достоинство, нельзя, однако, путать с шутовством и самоуничижением, когда человек в задоре артистического самооплевывания то и дело называет себя по прозвищу.
Древность и широту распространения прозвищ подтверждает и тот факт, что даже великие князья не всегда избегали второго имени (Иван-Калита, Дмитрий-Шемяка, Василий-Темный).
Образная сила, заключенная в русских прозвищах, не щадила не только отдельных людей, но и целые государства, земли и страны. Сатирический оттенок в таких прозвищах был ничуть не сильнее, чем в прозвищах, данных своим краям и губерниям. Архан-гельцев, к примеру, издавна обзывали моржеедами, владимирцев — клюковниками, борисоглебцев — кислогнездыми [147]. Вятичане были прозваны слепородами за то, что в 1480 году, придя на помощь устюжцам, слишком поспешно открыли сражение против татар. С рассветом вдруг обнаружилось, что били они своих же, которым пришли на выручку. Вологжане прозваны телятами, брянцы — куралесами. Новгородцев называли то гущеедами, то долбежниками. Муромцы были прозваны святогонами за то, что в ХШ веке выгнали из своего города епископа Василия. Уезды, волости и отдельные селения также весьма редко не удостаивались собственных прозвищ.
Разнообразие личных прозвищ поистине необъятно. Вот несколько женских прозвищ, бытовавших в Сохотской валости: Пеля, Луковка, Клопик, Моховка, Карточка, Прясло, Заслониха.
Одному из сапожников присвоена была новая фамилия — Мозолькин.
На стыке XIX и XX веков многие крестьянские прозвища преобразовывались в фамилии.
Многие люди, уезжая из родных мест, меняли не только фамилии, но и имена. Происходило это по разным, иногда грозным, социальным причинам.
В других случаях эти причины не отличались особой серьезностью. Крестьянский парень и корреспондент газеты «Красный Север», живя в глухой вологодской деревне, подписывает свое письмо в губернию фамилией Фильман. Другой парень, уже не по собственному желанию, а за умение выступать получил прозвище Ротанов (Кумзеро Харовского района). Старушка, пришедшая к нему с какой-то нуждой, по доброте назвала его «Батюшко-ротановушко». Одного этого было достаточно, чтобы навсегда исчез начальнический авторитет.
Читать дальше
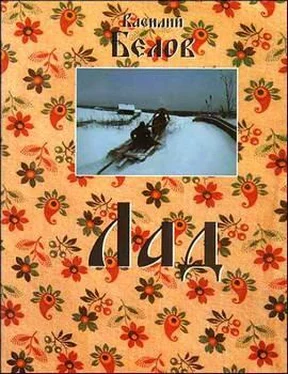
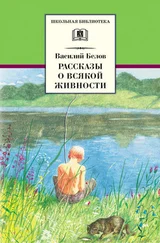








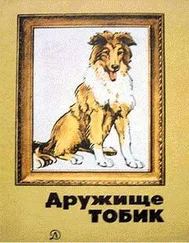
![Василий Белов - Волшебное слово [Сказки]](/books/393402/vasilij-belov-volshebnoe-slovo-skazki-thumb.webp)
