Сказочный герой, преданный родными братьями, брошенный в пропасть, попадает в тридевятое царство. Тоскуя по родине, он бродит по пустынному морскому берегу. Поднимается ужасная буря, повергнувшая на берегу могучий дуб, на котором свито гнездо улетевшей на промысел Ногай-птицы. Юноша спасает от бури малых птенцов, и в благодарность Ногай-птица соглашается вынести его из тридевятого царства. Соглашается с тем уговором, что он будет кормить ее в долгом пути. И вот они летят все выше и выше… Он бросает ей куски бычьего мяса, но пища кончается, когда уже виден край белого света. Ногай-птица, обессиленная, готова рухнуть. Он отрывает свою левую руку и бросает ей, но этого мало, и тогда он рвет по частям свое тело и кормит птицу, чтобы сохранить ей силы.
Сказка заканчивается счастливо: Ногай-птица «отхаркивает» человеческую плоть, и тело срастается, обрызганное сначала мертвой, затем живой водой.
А бывало ли так в действительности?
Витькины плечи были слишком хрупки, чтобы выдержать всю грандиозную тяжесть жанра. В Тимониху, как и в тысячи других деревень, не возвратилось с войны ни одного мужчины…
Сказочная поэзия являлась естественной необходимостью всего бытового и нравственного уклада. Творчество сказителя было необходимо среде, слушателям, всему миру. Это вовсе не значит, что эстетическая потребность в сказке удовлетворялась как попало и где попало. Сказка возникала сама собой, особенно в условиях вынужденного безделья: в дорожном ночлеге, во время ненастья, в лесном бараке, а то и в доме крестьянина. Архангельские поморы, уходя в долгое опасное плавание, нередко брали с собой натодельного сказочника, пользовавшегося всеми правами члена артели. То же самое можно
было наблюдать во многих плотницких артелях: умение сказывать давало негласную компенсацию одряхлевшему либо искалеченному плотнику. В зимнее время, когда не надо никуда торопиться, по вечерам слушать и рассказывать сказки собирались специально, устраивались даже своеобразные турниры сказочников. Здесь обретались популярность и слава, проступали индивидуальные свойства: пробовали силы начинающие, выявлялось косноязычие пустобрехов и никчемность вульгарщины.
Так же, как умение разговаривать, умение рассказывать приобретало некую обязательность, хотя никто тебя не осудит, если ты не умеешь рассказывать (как осуждают за то, что не умеешь сделать топорище, и слегка подсмеиваются, если ты дремучий молчун), никто не станет насмешничать. Но все равно лучше было уметь рассказывать, чем не уметь.
Нищие и убогие, чтобы хлебный кус не вставал в горле, рассказывали особенно много, хотя никто не отказывал им в милостыне и без этого.
Некоторые сказки объединяют в себе свойства и бухтин и бывальщин. Нежелание следовать канону приводит рассказчика к смешению сказочных сюжетов с сюжетами бухтин, преданий, бывалыцин, всевозможных интересных происшествий. Вот как начинается «Сказка про охоту», записанная в Никольском районе Вологодской области. «Я человек, как небогатый, продать было нечего, обдумал себе план, где приобрести денег на подать. Согласил товарищей идти в лес верст за сто с лишком, в сузем, в Ветлужский уезд, ловить птиц и зверей… Время было осеннее, в октябре, так числа семнадцатого».
Полная бытовая достоверность и документальные подробности в сочетании с невероятными событиями вызывают особый эмоциональный эффект. Слушатель не знает, что ему делать: то ли дивиться, то ли смеяться. Подобный фольклор не поддается никакой ученой классификации.
В семье сказка витает уже над изголовьем младенца, звучит (худо ли, хорошо ли — другой вопрос) на протяжении всего детства. Вначале он слышит сказки от деда и бабушки, от матери и отца, от старших сестер и братьев, затем он слышит их, как говорится, в профессиональном исполнении, а однажды, оставленный присматривать за младшим братишкой, начинает рассказывать сам.
Слушатель, становясь рассказчиком, тут же дает свободу и ход своим возможностям, которые могут быть разными, от совсем мизерных до таких могучих, какими были они, например, у Кривополеновой. Природный талант, редкие исполнительские свойства сказочника включают в себя прежде всего художественную память, некое подспудное, даже неосмысленное владение традиционными поэтическими богатствами. Эта художественная память дополняется у талантливого сказителя свойством импровизации.
Редко, очень редко настоящий сказочник повторял себя. Обычно одна и та же сказка звучала у него по-разному, но еще реже он рассказывал одну и ту же сказку. Подобно профессиональному умельцу, например резчику по дереву, сказитель не мог в точности повторить себя, каждая встреча со слушателем была оригинальна, своеобразна, как своеобразен каждый карниз или наличник у хорошего резчика.
Читать дальше
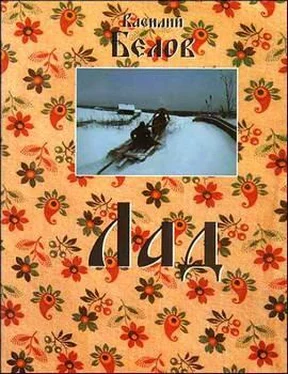
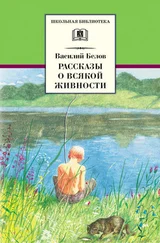








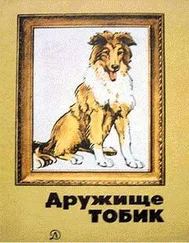
![Василий Белов - Волшебное слово [Сказки]](/books/393402/vasilij-belov-volshebnoe-slovo-skazki-thumb.webp)
