Вечером орава ряженых для пробы обходила некоторые дома в своей деревне. Ввалившись в избу, пугая детей, ряженые тотчас начинали плясать и фиглярничать, представляться.
Задачей зрителей было узнать, кто пляшет под той или иной личиной. Разоблаченный ряженый терял в глазах присутствующих смысл и снимал личину.
Прелесть хождения ряжеными состояла еще в том, что рядиться мог любой. Самый застенчивый смело топал ногами, самый бесталанный мог поплясать, это позволялось всем.
Дети и подростки ждали святочную неделю, как, впрочем, ждали они и другие события года: масленицу, ледоход, первый снег, праздник и т. д.
К святкам готовились заранее. Замужние и нестарые женщины ходили ряжеными в другие деревни, позволяя себе то, что в обычное время считалось предосудительным и даже весьма неприличным.
Баловство, ряжение, гадание и ворожба продолжались всю святочную неделю. На святках не чувствовалось той стройности, порядка и последовательности, которые присущи другим неоднодневным народным обычаям. Веселились и развлекали других все, кто как мог, но в этой беспорядочности и заключалась стилевая особенность святок.
Внутри самого святочного обычая родился и развился в своем чистом виде один из жанров народного искусства — жанр драматический.
Народную драму нельзя рассматривать вне святочной скоморошной традиции, она целиком вышла из ряженых, хотя и противоречит духу обычая. Ведь в каждом из ряженых таится актер, а там, где есть актер, неминуем и зритель. Но в старину в ряженом актерство не было главным, ряженый переставал быть ряженым, когда его узнавали. В то же время любой неряженый мог нарядиться когда ему вздумается.
В действе, в художественном процессе участвовали все. Народ не делился на два специфических лагеря: на зрителей и на исполнителей, на создателей искусства и на потребителей.
С подобным разделением творчества мы впервые встречаемся в таких действах, как «Лодка», «Царь Максимилиан», «Кобыляк и могильник», «Мужик и шапошник» и т. д.
Упомянутые действа, названные наукой «народными драмами», несмотря на свою художественную самобытность, по своему нравственному значению не идут ни в какое сравнение с самим обычаем, их породившим.
МАСЛЕНИЦА.
Семейная обрядность естественным образом сливалась с обрядностью, так сказать, общей, мирской. Например, в похоронах участвовали не только одни родственники, но и вся деревня. Свадьба также была общественным событием. Обряд рекрутских проводов тем более не умещался в рамках одной семьи; помочи по своей сути не могли ограничиться одной семьей, в святках участвовали все поголовно.
Масленица, как и святки, — одно из звеньев прочной цепи, составленной из общественно-семейных драматизированных обрядов [124]. В годовом цикле таких обрядовых, следовавших один за другим периодов, масленица занимала свое прочное и определенное место. Она же была в некотором роде и продолжением семейных, например, свадебных обрядов. На масленой неделе муж с женой обязательно ехали к родным жены. Поездка на зятевщину, к теще на блины, обставлялась целым рядом приятных условностей. В эту неделю окончательно устанавливались родственные семейные отношения между новобрачными и их близкими.
Но играли (переживали) масленицу не одни новобрачные и их родители, а все — молодые и старые. Масленица отмечалась прежде всего обильной [125]едой, блинами, великопостные строгости опять сменялись полной свободой.
Не напрасно масленица, начиная с четверга, в народе называлась широкой.
Катание на лошадях было главным делом на масленице. Выезд был своеобразным смотром коней и упряжи, здесь же присутствовал и спортивно-игровой смысл.
Повозка и упряжь на Севере, помимо хозяйственной функции, исполняли и эстетическую. Расписная дуга с колокольчиком, сани, медные и даже серебряные бляшки на шлее, хомуте, седелке, плетенные из жгутов кисти украшали выезд, которого ждали целый год после минувшей масленицы.
Все нестарое население увлекалось также самым разным катанием на снегу и на льду [126].
Катание на санках (салазках, чунках) было любимым детским занятием и не только в масленицу. Из толстых широких досок для детей делали специальные кореги (корежки). Опасности упасть с такой корежки и перевернуться практически не было. Корежки таскали на веревочках самые маленькие. Корега с беседкой называлась козлом. Если днище кореги облить водой и наморозить на нем слой льда, то такая корега особенно стремительно неслась с горы.
Читать дальше
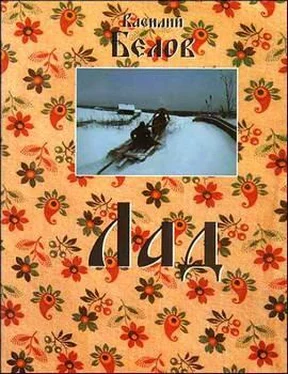
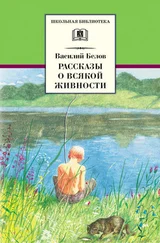








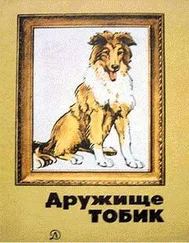
![Василий Белов - Волшебное слово [Сказки]](/books/393402/vasilij-belov-volshebnoe-slovo-skazki-thumb.webp)
