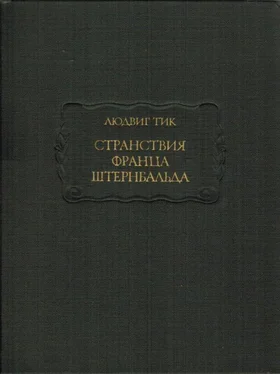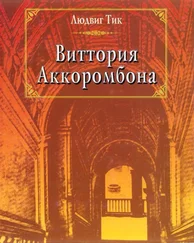— Я взялся за этот кропотливый труд из благодарности, — сказал Лука, — ибо шванки об Уленшпигеле часто заставляли меня хохотать от всей души. Как уже было говорено, немногие владеют искусством так радоваться шутовским проделкам Тиля, как я, ибо большинство даже к смеху подходят с излишней серьезностью; другим книга о Тиле нравится, но кажется неблагородным признаться в этом; остальным не хватает умения понимать, схватывать смешное — тут необходимо упражнение, точно так, как нужно видеть очень много картин, чтобы верно судить о них.
— О, вы глубоко правы, мастер, — ответил Дюрер, — большинству людей одинаково чуждо как серьезное, так и смешное. Они всегда ждут, что понимание того и другого придет само, без всяких усилий с их стороны; а между тем это случается весьма редко. И вот они невежественно полагаются на первое чувство, на минуту, и хвалят и хулят, не видя и не понимая ничего. Точно так же ведь обходятся они и с искусством живописи, они пробуют его, как суп или овощи, чтобы выяснить, довольно ли соли положила кухарка, а потом выносят приговор, нисколько не заботясь о том, чтобы приобрести необходимые для этого знания и взгляд. Смешно вспоминать, что и со мной приключилось однажды нечто подобное. Мне взбрело на ум сделаться поэтом {24}, хоть в поэзии я ничего не смыслил и не имел к ней никаких природных способностей. В простоте душевной я полагал, что рифмовать может всякий, и удивлялся, почему мне раньше не пришло в голову заняться стихотворством. Итак, я взял большой медный лист и старательно, красивыми буковками, выгравировал свои вирши: в стихотворении шла речь о морали, и я не постеснялся поучать в нем целый свет. Но когда все было готово — сколь жалок был результат! Ну и натерпелся я тогда от высокоученого Пиркхаймера, который долго не мог мне простить мою наглость. Он все повторял: «Всяк сверчок знай свой шесток! Альберт, с кистью в руке ты выглядишь разумным человеком, но перо превращает тебя в дурака». То же следовало бы сказать всем тем, кто берется за искусства, которые им не больше пристали, нежели ослу — игра на лютне.
— Вы непременно должны хоть ненадолго задержаться в Лейдене, — сказал Лука, — мне хочется говорить с вами бесконечно, узнать ваше суждение о многих вещах, ибо я не знаю другого человека на всем свете, с кем бы мне так же приятно было бы говорить, как с вами.
— Конечно, я пробуду здесь по меньшей мере несколько дней. — ответил Дюрер. — С того часа, как Франц меня покинул, я думал об этом путешествии и копил на него деньги, сколько мог.
За этими разговорами приспело время обеда; вошла молодая, красивая женщина, это была жена нидерландца, она приветливо напомнила мужу, что пора садиться за стол, и пригласила его вместе с гостями в трапезную. Они охотно последовали за ней и сели за стол. Супруга Альберта Дюрера очень приветливо поздоровалась с Францем Штернбальдом, никогда еще не видел он ее столь прелестной — путешествие рассеяло ее, она повеселела, да и лицом расцвела и пополнела.
За столом маленький Лука казался более на своем месте, чем где-либо; он умел так радушно угощать напитками и яствами, что отказаться было прямо-таки невозможно; при этом он был необычайно учтив с женой Дюрера и ухитрялся сделать ей великое множество неназойливых комплиментов. Дюрер, напротив, сидел серьезный и растерянный, прекрасная молодая жена Луки скорее смущала его, чем занимала, он привык к немецкой серьезности и считал, что если шутка не приходит ему в голову сама собой, искать ее бесполезно. Франц был в торжественно приподнятом настроении, он просто глаз не мог отвести от своего любимого учителя, тем более что завтра рано поутру — об этом не забывал он ни на минуту — он должен был ехать дальше и, следственно, расстаться с Дюрером: он нашел попутчиков, которые за недорогую цену соглашались взять его с собой в Антверпен.
Лука весело воскликнул:
— Мастер Альбрехт (простите мне, что я позволяю себе фамильярно называть вас по имени), прежде, чем вы уедете, позвольте мне написать ваш портрет, я очень хочу иметь ваш портрет, написанный со всей достоверностью и тщательностью, и буду весьма стараться.
— А я напишу вас, — молвил Альбрехт, — мне ваше лицо, право же, не менее мило, — и увезу портрет с собою в Нюрнберг.
— Знаете, как мы это устроим? — ответил Лука. — Вы напишете свой автопортрет, а я свой, и потом поменяемся, тогда у каждого будет на память еще и образец работы другого.
— Пожалуй, — сказал Дюрер, — мне в общем-то удаются автопортреты, я писал и гравировал их уже не раз, и их всегда считали похожими. Но что меня очень удивляет, — продолжал он, — так это что вы так молоды, мастер Лука, а между тем уже подарили миру так много произведений искусства и по праву имеете столь громкое имя: вам ведь не дашь и тридцати лет.
Читать дальше