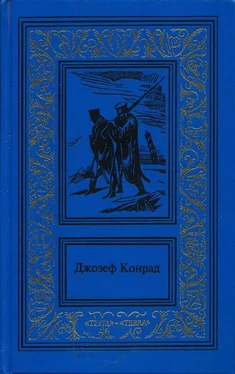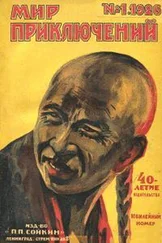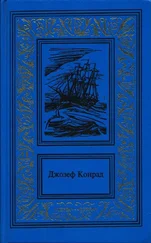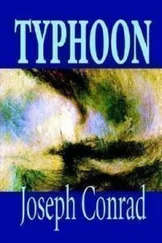— Уанг поджидает нас. Мы запоздали.
| — Вы думаете, что это был он? Мне одну секунду казалось, что я вижу что-то белое, потом оно исчезло.
— Вот именно… он исчезает… это чрезвычайно удивительная особенность этого китайца.
— Они все такие? — спросила она с любопытством тревожной наивности.
— Не все с таким совершенством, — сказал Гейст.
Он с радостью заметил, что прогулка не слишком утомила его подругу. На ее лбу капельки испарины казались каплями росы на свежем лепестке цветка. Он со все возрастающим восхищением смотрел на сильный и грациозный силуэт, на крепкие и гибкие формы.
— Отдохните четверть часика, а потом мистер Уанг накормит нас, — сказал он.
Они нашли стол накрытым. Когда они вышли, чтобы сесть к столу, Уанг бесшумно материализовался, без зова, и исполнил свои обязанности. Как только они кончили есть, китайца больше не стало.
Глубокая тишина висела над Самбураном, тишина тропического зноя, который кажется наполненным мрачными предсказаниями, как сосредоточенность пламенной мысли. Гейст остался один в большой комнате и взял в руки книгу. Молодая женщина удалилась к себе. Гейст сел под портретом своего отца и ужасная клевета подкралась исподтишка к его мысли. Он снова ощутил на губах противный горький вкус, напоминавший вкус некоторых ядовитых веществ. Ему хотелось плюнуть на пол, инстинктивно, просто от отвращения, вызванного этим физическим ощущением. Но он тряхнул головой. Он больше не узнавал себя: он не имел обыкновения воспринимать таким образом умственные впечатления и переводить их в жесты телесного волнения. Он нетерпеливо подвинулся на стуле и обеими руками поднес книгу к глазам. Это было сочинение его отца. Он раскрыл его наугад, и взгляд его упал на середину страницы; Гейст-отец писал в многочисленных произведениях на всевозможные темы: о пространстве и о времени, о животных и о планетах; он анализировал мысли и поступки, улыбки и нахму ренные брови людей, гримасы их агонии. Сын читал, углубляясь в себя, изменяя выражение своего лица, как если бы оно нахо дилось под взглядом автора, очень ясно ощущая присутствие портрета справа от себя, немного повыше головы; это было странное присутствие в тяжелой раме, на подвижной стенке из циновок, с этим выражением изгнанника и в то же время вполне довольного человека, отчужденного и вместе с тем повели тельного.
И Гейст-сын прочитал:
«Изо всех ловушек, которые расставляет жизнь, самой жестокой является — утешение любви — и в то же время самой ловкой, ибо желание — ложе мечтаний».
Он перелистал маленький томик «Грозы и пыль», здесь и там останавливаясь взглядом на отрывистом тексте, состоявшем из размышлений, афоризмов, коротких фраз, загадочных слов, порою красноречивых. Ему казалось, что он слышит голос отца, который то говорил, то умолкал. Вначале пораженный, он стал находить в этом впечатлении известную прелесть и предался иллюзии, что какая-то частица его отца еще живет в этом мире: призрак его голоса, доходивший до слуха сына, который был плотью от плоти его, кровью от его крови. С каким удивительным спокойствием, смешанным со страхом, этот человек разглядывал ничтожество вселенной! Он погрузился в него головой вперед, быть может, для того, чтобы сделать более переносимой смерть — неизбежный ответ на все вопросы.
Гейст пошевелился, и призрачный голос умолк; но глаза его пробегали последнюю страницу книги:
«Люди с неспокойной совестью или с преступным воображением знают множество вещей, о которых даже не подозревают умы спокойные и покорные; и одни только поэты осмеливаются спускаться в бездны преисподней или хотя бы мечтать о такой прогулке. Самое незначительное существо человеческое сказало себе однажды: «Все лучше, чем это!»
У всех нас бывают минуты ясновидения, но они нам мало помогают. Слишком ловкая жизнь запрещает им, как и всему, что с нами соприкасается, приходить к нам на помощь. Собственно говоря, природа этой жизни бесчестна, судя по принципам, установленным ее жертвами. Она извиняет всякие протесты, как бы они ни были резки, но устраивается в то же время так, чтобы их раздавить так же, как она давит самое слепое подчинение. Так называемое зло, с тем же правом, что и так называемое добро, находит свою награду в самом себе, если только оно хочет существовать.
С ясновидением, или без него, люди любят свою зависимость. Неизведанной силе отрицания они предпочитают жалкую беспорядочность ложа рабов. Только человек способен вызывать отвращение жалости, а между тем мне приятнее верить в несча- i гие человечества, нежели в его злобность».
Читать дальше