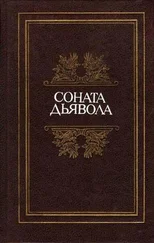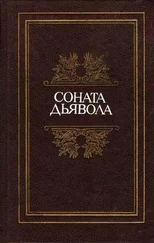Глава первая
ПОТЕРЯННЫЙ ВЕЧЕР
Я вышел из театра, где каждый вечер появлялся в ложе па авансцене, как и приличествует истинному воздыхателю. Порою зал был битком набит, порою почти пуст. Но меня ничуть не трогало, сидит ли в партере лишь горсточка деланно оживленных любителей, а в ложах красуются только чепцы да вышедшие из моды платья, или кругом теснится взволнованная, воодушевленная толпа, и все ярусы блистают цветистыми туалетами, драгоценными камнями, счастливыми лицами. Впрочем, зрелище на подмостках задевало меня не больше, пока во второй или третьей сцене какого-нибудь тогдашнего скучнейшего шедевра не появлялась та, чьи черты были мне так знакомы, и не озаряла пустыню, не вселяла жизнь в эти бесплотные до тех пор тени единым своим вздохом, единым взглядом.
Всеми фибрами я ощущал, что жизнь моя — в ней и что она живет для меня одного. Ее улыбка переполняла мне душу безграничным блаженством, переливы голоса, такого нежного и вместе на удивление звучного, отзывались трепетом любви и радости. Она была для меня воплощением всех совершенств, отвечала моим самым высоким идеалам, самым прихотливым желаниям — прекрасная, как день, когда огни рампы снизу освещали ее лицо, сумрачная, как ночь, когда огни эти гасли и только лучи люстры лились на нее сверху, являя ее почти такой, какая она была в действительности — разгоняющей тьму лишь сиянием своей красоты, подобная божественным Горам, чье единственное украшение — звезда во лбу и чей силуэт так отчетливо рисуется на коричневом фоне фресок в Геркулануме!
За целый год я так и не удосужился разузнать о ее жизни вне сцены, я боялся замутить магическое зеркало, отражавшее ее облик, лишь изредка ловил обрывки разговоров о ней — о женщине, а не об актрисе. Они интересовали меня не больше чем слухи об элидской царевне или трапезундской царице. У меня был дядюшка, который в предпоследние десятилетия XVIII века вел жизнь, открывшую ему этот век до самых глубин, так вот, он еще в ранней моей юности внушил мне, что актрисы не женщины, что природа забыла наделять их сердцем. Он, само собой, разумел своих современниц, но я, выслушав столько историй об иллюзиях и разочарованиях, пересмотрев столько портретов на слоновой кости — прелестных медальонов, украшавших потом дядюшкины табакерки,— столько пожелтевших записок и выцветших лент, узнав все подробности о том, как эти истории начинались и к какому пришли концу,— я привык плохо думать обо всех актрисах вообще, забывая, что у каждого века своя особая печать.
В странное мы жили время: такое обычно следует за революциями или знаменует упадок некогда блистательных царствований. Не было в нем ни рыцарственности Фронды, ни элегантной и нарядной порочности Регентства, ни скептицизма и безудержного распутства Директории; вместо этого — смесь из порывов к деятельности, сомнений, лени, великолепных утопий, философских и религиозные исканий, неопределенной восторженности, окрашенной чаяниями возрождения, оскомины от былых междоусобиц, смутных надежд — короче говоря, некое подобие эпохи Перегрина и Апулея. Плотский человек жаждал букета роз, который вдохнул бы в него новую жизнь, ибо этих роз касались руки прекрасной Изиды; вечно юная и чистая богиня являлась нам в ночные часы, и тогда мы испытывали глубокий стыд за наши потерянные дни. Честолюбие, однако, не было свойственно моему поколению, алчная грызня из-за высоких постов и почетных должностей отвращала нас от тех сфер, где можно было бы приложить свои силы.
Так что единственным нашим прибежищем была та, принадлежащая поэтам, пресловутая башня из слоновой кости, на которую мы всходили все выше и выше, дабы оградить себя от черни. На высотах, куда наши учителя вели нас за собою, мы могли наконец надышаться чистым воздухом одиночества, мы пили забвение из золотой чаши сказаний, мы опьянялись поэзией и любовью. Любовь — увы — смутные образы, розовые и голубые тона, метафизические призраки! Увиденная вблизи реальная женщина больно уязвляла наши наивные души; она мнилась нам лишь в облике царицы или богини, поэтому всего важнее было не подходить к ней слишком близко.
Впрочем, иные из нас не высоко ставили подобные парадоксы в духе Платона и вторгались в наши навеянные Александрией грезы, потрясая факелом подземных богов, на мгновение озаряющим тьму искристым своим следом. Потому-то, выходя из театра с ощущением отдающей горечью грусти, а ее всегда оставляет по себе растаявшая мечта, я охотно присоединялся к обществу, где за многолюдными ужинами не было места меланхолии: ее изгонял нескудеющий блеск беседы тех избранных умов, живых, пронзительных, мятежных, порою возвышенных, которых неизменно порождают эпохи обновления или упадка; эти споры, случалось, достигали такого накала, что самые робкие из нас подходили к окнам поглядеть, не грядут ли уже полчища гуннов, татар или казаков, дабы навсегда положить предел этим тирадам софистов и риторов.
Читать дальше