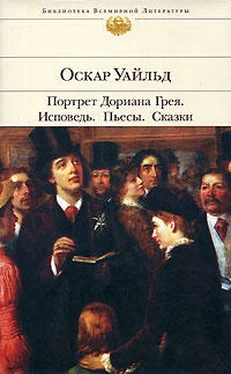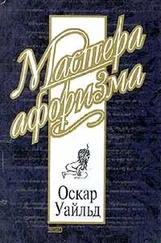Розенкранц и Гильденстерн даже не догадываются обо всем этом. Они только и делают, что раскланиваются со всеми, всем расточают улыбки, любезничают со всеми, и то, что произносит один из них, тут же повторяет другой, только с еще более слащавыми интонациями. И когда Гамлет, разыграв с помощью бродячих актеров спектакль внутри спектакля, ловит наконец в «мышеловку» [211]совесть короля (своего дяди и отчима), и несчастный в ужасе отрекается от трона, Гильденстерн и Розенкранц усматривают в поведении Гамлета всего лишь досадное нарушение придворного этикета. Это предел «проницательности», которую они способны проявить, присутствуя на «спектакле жизни» и реагируя на происходящее подобающими эмоциями.
Тайна Гамлета – под самым их носом, но они даже не догадываются о ней. Да и открывать ее этой парочке было бы бесполезно – они все равно ничего бы не поняли. Их можно уподобить маленьким винным бокалам, вмещающим ровно столько вина, сколько они могут вместить, – ни каплей больше.
Ближе к развязке пьесы нам дают понять, что, попавшись в силки, расставленные для другого, они умерли – или, по крайней мере, должны были умереть – внезапной и насильственной смертью.
Но трагический финал такого рода, несмотря на то, что гамлетовское чувство юмора и придало ему оттенок неожиданного и справедливого возмездия, присущий комедиям, на самом деле не является концом для Гильденстерна и Розенкранца. Такие, как они, не умирают.
Горацио, сдавшись на уговоры Гамлета:
«…Нет, если ты мне друг, то ты на время поступишься блаженством. Подыши еще трудами мира и поведай про жизнь мою», [212]– все же умирает, хотя и не на глазах у публики, и после него никого не остается, даже брата. Но Гильденстерн с Розенкранцем так же бессмертны, как Анджело [213]с Тартюфом, причем все они стоят друг друга. Они олицетворяют собой то, что современная жизнь привнесла в античный идеал дружбы. Тот, кто напишет новый трактат «De Amicitia», [214]должен уделить им видное место в своем творении и воздать им хвалу, прибегнув к лучшим образцам тускуланской прозы. [215]
Все четверо относятся к типу, встречающемуся во все времена. Порицать их – значит недооценивать этот факт. Они попросту оказались за пределами своей среды, вот и все. Величием души нельзя заразиться, как заражаются инфекционной болезнью. Возвышенные мысли и высокие чувства в силу своей уникальности не могут быть переданы другим. То, чего не могла понять даже Офелия, уж тем более не в состоянии были уяснить ни «Гильденстерн и милый Розенкранц», ни «Розенкранц и милый Гильденстерн». [216]
Разумеется, я не собираюсь сравнивать с ними тебя. Между вами огромная разница. То, что они делали почти бессознательно, ты делал совершенно сознательно. С присущей тебе напористостью и без всякого приглашения с моей стороны ты проник в мою жизнь, узурпировав в ней для себя место, на которое не имел права и которого не заслуживал, и с поразительной настойчивостью, изо дня в день, продолжал навязывать мне свое общество, пока не заполнил своим присутствием всю мою жизнь, с тем чтобы в конце концов разбить ее вдребезги.
Ты, наверно, удивишься моим словам, если я скажу, что ты просто не мог поступить иначе. Когда ребенку дают в руки игрушку, столь чудесную, что его неразвитый ум не в силах постичь ее чуда, или столь прекрасную, что его полупроснувшийся взгляд не может оценить ее красоты, то ребенок, если он избалован и своеволен, ломает ее, а если флегматичен, равнодушно роняет на пол и идет играть с другими детьми. Точно так же произошло и с тобой.
Завладев моей жизнью, ты не знал, что с ней делать. Да и откуда тебе было знать? Ты не в состоянии был постичь, какая драгоценность тебе досталась. Уж лучше бы ты выпустил ее из рук и вернулся к играм со своими приятелями. Но, к несчастью, ты был избалованным, своевольным ребенком – поэтому ты сломал ее. Это, в конечном счете, и было главной причиной того, что случилось. Ибо ничтожные причины часто приводят к серьезным, а то и к роковым последствиям.
Сдвиньте с места крошечный атом – и вы получите катастрофу глобальных масштабов. Чтобы быть объективным и щадить себя не более, чем тебя, добавлю вот еще что: какими бы опасными последствиями ни грозило мне наше знакомство с тобой, его фатальность более всего предопределил тот момент, в который оно произошло. Ибо ты был в том возрасте, когда еще сеют, я же вступил в ту пору жизни, когда уже жнут.
Хочу тебе сказать еще кое-что. Начнем с моего банкротства. Несколько дней тому назад я узнал – не скрою, с большим огорчением, – что твоя семья умудрилась пропустить тот срок, в течение которого можно было откупиться от твоего отца, и сейчас это носило бы уже противозаконный характер. А это означает, что мне придется оставаться в том же бедственном положении еще очень долгое время. Для меня это просто ужасно, ибо, как мне разъяснили, теперь, согласно закону, я не вправе даже выпустить книгу без разрешения официального ликвидатора, [217]которому я обязан представлять на рассмотрение все счета.
Читать дальше