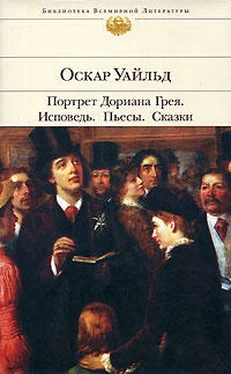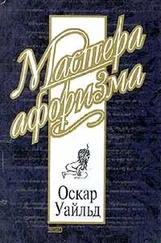Это крайне непорядочно с твоей стороны. Кстати, ты должен быть признателен Роберту Шерарду за то, что, узнав от меня о моем крайне негативном отношении к твоему намерению опубликовать в «Mercure de France» статью обо мне, будь то с моими письмами или без них, он вовремя довел это до твоего сведения и таким образом помешал тебе причинить мне – быть может, и ненамеренно – новую боль, вдобавок к той, что ты мне уже причинил.
Ты должен учитывать, что письма в редакцию, написанные с точки зрения обывателя в этаком покровительственно-снисходительном тоне и внушающие читателю, как важно придерживаться правил «честной игры» по отношению к человеку, «который очутился в нокдауне», конечно, вполне приемлемы и даже привычны для английских газет; более того, публикация таких писем – это, в сущности, продолжение старинных традиций английской прессы, с незапамятных времен относившейся к художникам свысока.
Но во Франции такой тон вызвал бы лишь насмешки надо мной и презрение к автору письма, то есть, в данном случае, к тебе. Я не мог допустить публикацию статьи о себе, предварительно не узнав, в каком ключе она написана, с какой целью, с каких позиций – ну и так далее. Благие намерения ничего не стоят в искусстве. Все, что есть бездарного в искусстве, создавалось с самыми благими намерениями.
Роберт Шерард – не единственный из моих друзей, кому ты писал желчные, злые письма, раздосадованный тем, что они, эти по-настоящему преданные мне друзья, считали, что во всех делах, касающихся меня лично, нужно прежде всего принимать во внимание мои чувства и мое волеизъявление, будь то публикация статей обо мне, посвящение мне стихов или возвращение мне моих писем и подарков. Ты страшно злился на них за это.
Приходило ли тебе в голову, каким ужасным было бы мое положение, если бы эти два последние года, полные тягот тюремного заключения, я полагался бы только на тебя и твою дружбу? Ты хоть раз подумал об этом? Испытывал ли ты хоть какое-то чувство благодарности к тем, кто все это время облегчал тяжкое бремя моих страданий своей безграничной добротой, беззаветной преданностью, неугасимым оптимизмом и всегдашней готовностью помочь?
В состоянии ли ты понять, как много делали для меня те, кто столько раз навещал меня здесь, писал мне прекрасные, полные сочувствия письма, приводил в порядок мои расстроенные дела, занимался организацией моей будущей, послетюремной, жизни, оставался неизменно мне преданным, несмотря на целый град поношений, насмешек, неприкрытых издевательств и даже оскорблений, сыпавшийся на мою голову?
Я не устаю благодарить Господа за то, что он дал мне настоящих друзей, столь на тебя непохожих. Им я обязан всем. Даже расходы на книги – все, что есть в моей камере, – и те оплатил из своих карманных денег Робби. На его же средства будет куплена для меня одежда, когда я выйду на волю. Мне не стыдно принимать от людей то, что они дают мне с любовью и от чистого сердца. Более того, я горжусь этим. Но задумывался ли ты хоть на минуту, чем были для меня все это время мои друзья – и Мор Эйди, [191]и Робби, и Роберт Шерард, и Фрэнк Харрис, [192]и Артур Клифтон? [193]
Можешь ли ты хоть отдаленно представить, какую огромную помощь, поддержку, любовь и сочувствие я от них получал?
Мне кажется, тебе это и в голову не приходило. А имей ты хоть каплю воображения, ты бы понял, что должен был бы почитать за особую честь, если бы любой из тех, кто был ко мне добр все эти тюремные годы, – и надзиратель, который неизменно говорил мне «доброе утро» и «спокойной ночи», хотя это не входило в его обязанности; и простые полицейские, которые в своей грубоватой манере старались подбодрить меня, видя, в каком подавленном состоянии я пребывал, когда меня таскали в Суд по делам о несостоятельности и обратно; и жалкий воришка, который, узнав меня, когда мы ходили по кругу во дворе Уондсвортской тюрьмы, прошептал мне хриплым «тюремным» голосом, появляющимся у заключенных от вынужденного длительного молчания: «Жаль мне тебя, горемычного: таким, как ты, видать, потруднее, чем нам, кто попроще», – так вот, повторяю, ты должен был бы почитать за особую честь, если бы кто-нибудь из этих людей позволил тебе опуститься перед ним на колени, чтобы счистить грязь с его башмаков.
Будь у тебя хоть капля воображения, ты мог бы в какой-то степени представить себе, до чего же страшной трагедией обернулась для меня встреча с твоим семейством. Это было бы трагедией для любого, кому есть что терять – высокое положение, громкое имя, все, что дорого для него. Едва ли найдется хоть кто-нибудь в твоем семействе – исключая разве что Перси: [194]он очень неплохой человек, – кто так или иначе не содействовал бы моей гибели.
Читать дальше