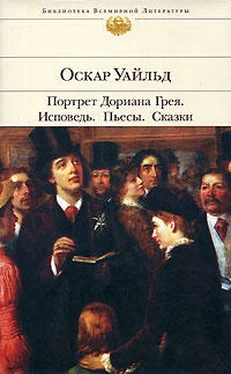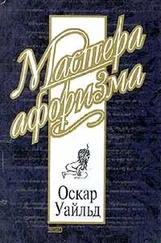Так вот, когда мы с ней разговаривали, я высказался в том духе, что на долю жителей какого-нибудь глухого лондонского закоулка выпадает слишком уж много страданий, чтобы они поверили в то, будто Господь действительно любит человека, и что любое, даже самое малое горе, переживаемое, например, ребенком, проливающим горькие слезы в глухом уголке сада из-за какого-нибудь ничтожного проступка, ставит под сомнение разумность и красоту мироздания.
Я, конечно, глубоко ошибался, и она мне сказала об этом, но тогда я ей не поверил. Мои взгляды, интересы и убеждения не позволяли мне видеть, как я не прав. Сейчас же мне кажется, что Любовь, и одна лишь Любовь, какого бы рода она ни была, – вот единственное объяснение и оправдание того моря страданий, которым полнится мир. Другого объяснения я не вижу. Более того, я убежден, что другого объяснения и быть не может.
Если, как я уже сказал в этом письме, целые миры и в самом деле были построены из страданий, то опять-таки я убежден, что строили их руки Любви, ибо никаким иным образом Душа человека, для которого и создавались эти миры, не могла бы достигнуть своего полного совершенства. Наслаждения – удел прекрасного тела, страдания – удел прекрасной души. Хотя, конечно, я понимаю, что, когда я заявляю о своей убежденности во всем этом, во мне, скорее всего, говорит гордыня.
Далеко-далеко, подобно волшебной жемчужине, виднеется Град Господень. Он настолько прекрасен, что кажется, будто ребенок, неодолимо влекомый его красотой, может перенестись туда за один летний день. Что ж, наверно, ребенок и может, но не я и такие, как я. Бывает, мелькнет в голове столь блестящая мысль, что кажется, будто никогда ее не забудешь, но потом как-то так получается, что под тяжелую, свинцовую поступь времени незаметно ее упускаешь. Ах, как трудно оставаться на «тех вершинах, что доступны лишь для души полета»! [95]
Мы, смертные, мыслим категориями Вечности, но движемся сквозь конечное Время, хотя оно и кажется нам, узникам, томительно бесконечным. Впрочем, я достаточно говорил об этом, а также о том изнеможении и отчаянии, которые, сколь упорно ни изгоняй их, вновь прокрадываются в наши темницы и в темницы наших сердец, причем с такой неустанной настойчивостью, что приходится к их возвращению приводить в порядок свой дом, словно к приходу незваного, но важного гостя, или вечно недовольного хозяина, или раба, чьим рабом пришлось стать по воле случая или по собственной воле.
Тебе может показаться странным то, что я сейчас собираюсь сказать, но тем не менее это правда. А заключается она в том, что тебе, живущему на свободе, в праздности и комфорте, легче усваивать уроки Смирения, чем мне, хотя я и начинаю каждый свой день с того, что становлюсь на колени и мою пол в своей камере. Ибо тюремная жизнь, со всеми ее лишениями и ограничениями, пробуждает в человеке мятежный дух. Самое страшное в ней не то, что она разбивает сердце – оно нам для того и дано, чтобы его разбивали, – а то, что она обращает его в камень.
Порою кажется, что только полное безразличие да застывшая на губах презрительная улыбка дадут силы пережить еще один день в тюрьме. Ну а на того, кто возмущен душой, не снизойдет благодать Господня, как говорит нам Церковь, – и говорит с полным основанием, добавлю я, потому что и в жизни, и в Искусстве мятежный дух перекрывает каналы души и лишает способности слышать небесную музыку.
И все же, если я хочу научиться Смирению, то где же мне брать уроки, как не здесь, в тюрьме? Я должен быть преисполнен ликования, зная, что я на верном пути и что лик мой обращен в сторону «врат, ведущих в царство Прекрасного», пусть мне даже и предстоит много раз падать в грязь и сбиваться с дороги в тумане.
Моя новая жизнь (мне нравится иногда называть ее так из любви к несравненному Данте) – на самом деле, конечно, вовсе не новая жизнь, а просто продолжение, развитие, эволюция моей прежней жизни.
Помню, как однажды я сказал одному из друзей – было это в далекие оксфордские времена, когда чудесным солнечным утром, накануне моих выпускных экзаменов, мы с ним бродили под звуки звонкого птичьего щебета по узеньким дорожкам у стен колледжа Магдалины, – что мне хотелось бы отведать плодов с каждого дерева, растущего в саду, имя которому – весь свет, и что с этой страстью в сердце я и вступаю в широкий мир.
Именно так я и провел свою молодость, именно так я и жил. Но, на свою беду, я ограничивался деревьями лишь с той стороны сада, которая была залита золотом солнца, и избегал другой его стороны, погруженной в темень и мрак. Неудачи, бесчестье, нищета, горе, отчаяние, страдания, слезы, бессвязные слова, срывающиеся с губ от боли, раскаяние, с которым человек продирается через тернии на своем пути, совесть, выносящая ему приговор, самоуничижение, которым он наказывает себя, несчастье, посыпающее себе голову пеплом, невыносимая мука, облачающаяся во власяницу и подливающая желчь в собственное питье, – все это пугало меня. И как бы ни избегал я срывать эти горькие плоды с деревьев темной стороны сада, пришло время, когда я был вынужден вкусить каждого из них по очереди, был вынужден питаться исключительно ими – и еще долго, мучительно долго иной пищи у меня не было.
Читать дальше