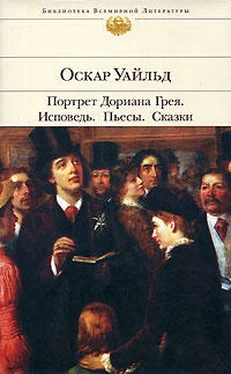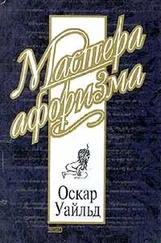Ты решил использовать преимущества открыток, учитывая, что он не сможет их не читать, и стал забрасывать его ими. Этим ты еще больше раззадорил его. Впрочем, в любом случае он не отказался бы от своих намерений – я в этом уверен. Уж слишком сильно говорили в нем родовые инстинкты. Его ненависть к тебе была столь же неукротимой, как и твоя ненависть к нему, а я служил для вас обоих лишь удобным предлогом для взаимных атак, орудием для нападения и обороны.
Потребность находиться в центре внимания – и чем скандальнее повод, тем лучше – была в твоем отце даже не личной чертой, а фамильной. Ну а в том случае, если бы его пыл стал угасать, ты раздул бы его заново своими письмами и открытками. Так, собственно, и случилось.
Более того, отец твой, как и следовало ожидать, пошел еще дальше. Поначалу он травил меня как лицо частное и частным образом, потом – как фигуру публичную и публично, но в конце концов решил прибегнуть к самому эффективному способу – атаковать меня как Художника, причем именно в том месте, где я представляю свое Искусство публике, то есть в театре… Он обманным путем достает билет на премьеру моей новой пьесы и замышляет устроить в театре грандиозный скандал, а именно: прервать спектакль, произнести гнусную речь в мой адрес, а заодно оплевать и моих актеров или же, когда закончится представление и я выйду на вызовы публики, осыпать меня грязными и непристойными оскорблениями – словом, разделаться со мной, прибегнув к какой-нибудь безобразной выходке и использовав в качестве орудия мое же Искусство.
По чистой случайности об этом становится известно другим, ибо он, в припадке пьяной откровенности, имел неосторожность распустить перед ними язык насчет своего хитроумного плана. Они сообщают об этом в полицию, и его в театр не пускают. Вот тут бы тебе и сказать свое веское слово: случай представился как нельзя более подходящий.
Неужели ты до сих пор не понял, что тебе следовало бы, пользуясь моментом, заявить тогда во всеуслышание, что ты не дашь в обиду мое Искусство, не позволишь, чтобы оно было принесено в жертву ради тебя. Ведь ты знал, что значит для меня Искусство, знал, что оно – та великая вечная музыка, дивные звуки которой помогли мне открыть свою душу – сначала для себя, а затем и для всех других; что оно – подлинная моя страсть, главная моя любовь, рядом с которой все мои другие чувства – все равно что болотная жижа по сравнению с красным вином или крошечный светлячок по сравнению с волшебным зеркалом луны. Неужто ты и по сию пору не понял, что отсутствие воображения – самый пагубный порок твоего характера?
В создавшейся тогда ситуации перед тобой стояла в высшей степени простая и ясная задача, но тебя ослепляла Ненависть, не давая тебе увидеть, что нужно делать. Не мог же я просить прощения у твоего отца за то, что он почти девять месяцев подряд преследовал и оскорблял меня самым разнузданным образом. Исключить тебя из своей жизни я тоже не мог, хоть и пытался не раз.
В конце концов, в надежде укрыться от тебя, я решил бежать из Англии за границу, но это тоже не помогло. Ты был единственным человеком, кто мог бы меня спасти. Ключ к решению ситуации был только в твоих руках. У тебя была уникальная возможность хотя бы отчасти отблагодарить меня за всю мою любовь, привязанность, доброту и щедрость к тебе, за всю мою о тебе заботу. Если бы ты ценил во мне хотя бы десятую долю моего художественного таланта, ты знал бы, что делать, и сделал бы это.
То свойство, «которое одно лишь позволяет человеку понимать других в их реальных и идеальных проявлениях», полностью в тебе омертвело. Ты думал только о том, как бы упрятать своего отца за решетку. Увидеть его «на скамье подсудимых», как ты неустанно любил повторять, стало твоей идеей фикс, одним из scies [46]всех твоих разговоров.
Ты произносил эти слова по несколько раз за каждой трапезой. Что ж, твое желание исполнилось. Ненависть даровала тебе все, о чем ты мечтал. Она была доброй твоей Госпожой, во всем тебе потакавшей. Такой она бывает со всеми, кто ей преданно служит. Два дня ты просидел на возвышении рядом с шерифами, наслаждаясь зрелищем своего отца на скамье подсудимых в Центральном уголовном суде. А на третий день на его месте оказался я. Что же произошло? А то, что вы с отцом, играя в вашу чудовищную игру в ненависть, оба бросили кости, ставя на мою душу, и тебе не повезло – ты проиграл. Вот и все.
Итак, я дошел в своем рассказе до того дня, когда попал в следственную тюрьму. После ночи в полицейском участке меня отвезли туда в тюремной карете. Ты был в высшей степени добр и внимателен ко мне. До того как уехать за границу, ты регулярно, едва ли не каждый день, проделывал все это расстояние до Холлоуэя [47]специально для того, чтобы повидаться со мной. Ты писал мне очень теплые, очень славные письма. Но при этом тебе и в голову не приходило, что посадил меня в тюрьму вовсе не твой отец, а именно ты, что с самого начала и до конца ты, и один только ты был за это в ответе, – словом, что попал я сюда исключительно из-за тебя, благодаря тебе и по твоей милости. Твоя омертвелая, лишенная воображения душа не пробудилась даже тогда, когда ты увидел меня за решеткой моей деревянной клетки.
Читать дальше