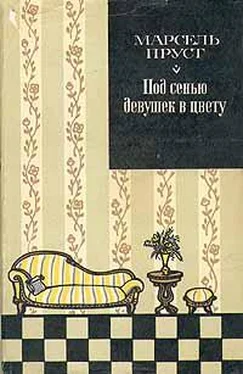И все же мне пришлось отвести взгляд от мадмуазель де Стермарья, так как, полагая, видимо, что знакомство с важным человеком есть действие любопытное, короткое, имеющее самостоятельную ценность, требующее для того, чтобы выжать весь содержащийся в нем интерес, только рукопожатия и проницательного взгляда, не нуждающееся ни в завязывании разговора, ни в поддерживании отношений, ее отец уже оставил в покое старшину и сел против нее, потирая руки с видом человека, только что сделавшего ценное приобретение. А до моего слуха временами долетал голос старшины: едва волнение от встречи в нем улеглось, он, обращаясь, как всегда, к метрдотелю, заговорил:
— Но я же ведь не король, Эме; ну так и идите к королю. Как вы находите, председатель? На вид эти форельки очень недурны, вот мы сейчас их и попросим у Эме. Эме! Вон та рыбка, по-моему, вполне приемлема. Принесите-ка нам ее, Эме, да побольше.
Он все время называл метрдотеля по фамилии, так что, когда кто-нибудь у него обедал, гость говорил ему:
«Вы, я вижу, тут свой человек», — и тоже считал необходимым повторять «Эме», придерживаясь правила, которому следовал не он один и в котором смешались робость, пошлость и глупость: будто бы во всем подражать людям, в чьем обществе они находятся, — это и умно и изящно. Старшина беспрестанно называл метрдотеля по фамилии, но с улыбкой: ему хотелось подчеркнуть, что он в хороших отношениях с метрдотелем, но вместе с тем смотрит на него сверху вниз. А метрдотель, всякий раз, как произносилась его фамилия, улыбался умиленной и тщеславной улыбкой, показывая, что он гордится честью и понимает шутку.
Я всегда робел в огромном, обычно переполненном ресторане Гранд-отеля, но особенно мне становилось не по себе, когда приезжал на несколько дней владелец (а может быть, главный директор, избранный акционерной компанией, — наверное сказать не могу) не только этого отеля, но и еще не то семи, не то восьми, которые находились в разных концах Франции и в каждом из которых он, объезжая их, останавливался на неделю. Тогда каждый вечер, почти в начале трапезы, у входа в столовую появлялся этот маленький человечек, седой, * красноносый, совершенно невозмутимый и необычайно корректный, которого, по-видимому, так же хорошо знали в Лондоне, как и в Монте-Карло, и везде считали одним из крупнейших содержателей гостиниц во всей Европе. Однажды я на минутку вышел из столовой, а когда, возвращаясь, проходил мимо него, он поклонился мне, чтобы подчеркнуть, что я его гость, но до того сухо, что я так и не понял, чем эта сухость вызвана: сдержанностью человека, не забывающего, кто он такой, или презрением к незначительному посетителю. Лицам очень значительным главный директор кланялся так же сухо, но ниже, опуская глаза как бы в знак стыдливого почтения, словно при встрече на похоронах с отцом усопшей или при виде святых даров. За исключением этих редких, ледяных приветствий, он не делал ни одного движения, как бы давая понять, что горящие его глаза, словно готовые выскочить из орбит, все видят, везде наводят порядок, обеспечивают во время «обеда в Грандотеле» не только безукоризненность деталей, но и стройность ансамбля. Он явно ощущал себя больше чем режиссером, больше чем дирижером — настоящим генералиссимусом. Он верил, что если довести созерцание до предельной напряженности, то все будет в полном порядке, что не будет допущено самомалейшей оплошности, которая могла бы повлечь за собою разгром, и, беря на себя всю ответственность, он воздерживался не только от движений — он даже не водил глазами: замерев от сосредоточенности, его глаза охватывали и направляли всю совокупность действий. Я чувствовал, что даже движения моей ложки от него не ускользают, и хотя бы он исчезал сразу после супа, произведенный им смотр портил мне аппетит на все время обеда. А у него аппетит был отличный — это он доказывал за завтраком, сидя в столовой как частное лицо и занимая такой же столик, как и все. Его столик имел только одну особенность: пока главный директор ел, другой, всегдашний директор, стоя, все время что-то ему говорил. Он был его подчиненным и оттого заискивал перед ним и безумно боялся его. А я за завтраком не очень его боялся: затерянный среди посетителей, он был тактичен, как генерал в ресторане, делающий вид, что не замечает сидящих тут же солдат. И все же, когда швейцар, окруженный своими «посыльными», сообщал мне: «Завтра утром он уезжает в Динар. Оттуда — в Биарриц, а потом — в Канн», — мне становилось легче дышать.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу