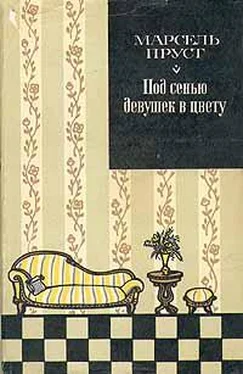«Госпожа Сван — это целая эпоха, правда?» Как в прекрасном стиле различные формы, скрепленные незримой традицией, наслаиваются одна на другую, так в туалетах г-жи Сван смутные воспоминания о жилетах, буклях и тут же пресекаемая тенденция к «Прыгай в лодку», вплоть до отдаленного, неявного подобия тому, что носило название: «Следуйте за мной, молодой человек», — все это содействовало распространению под вполне определенной оболочкой недовершенного сходства с более старинными формами, чего никакая портниха или модистка не сумели бы добиться, и вот эта связь со стариной не выходила у вас из головы, а г-жу Сван облагораживала — быть может, потому, что бесполезность ее уборов наводила на мысль, что они соответствуют не только утилитарным целям, быть может, оттого что в них сохранилось нечто от минувшего, а быть может, дело заключалось еще в особой манере одеваться, свойственной только г-же Сван, манере, благодаря которой у самых разных ее нарядов вы обнаруживали семейное сходство. Чувствовалось, что она одевается так не только потому, что это удобно или красиво; туалет был для нее утонченной и одухотворенной приметой целого периода в истории культуры.
Если Жильберта, обычно приглашавшая на чашку чая в дни приемов матери, куда-нибудь уходила и мне можно было пойти на «журфикс» к г-же Сван, я всегда видел на ней красивое платье, иной раз — из тафты, в другой раз — из фая, из бархата, из крепдешина, из атласа, из шелка, и эти платья, не такие свободные, как дезабилье, в котором она обычно ходила дома, словно надетые для выхода, вносили в ее дневной, домашний досуг бодрящее, деятельное начало. И конечно, смелая простота их покроя очень шла к ее фигуре и к ее движениям, которым рукава точно придавали менявшуюся каждый день окраску: синий бархат выказывал внезапную решимость, белая тафта говорила о хорошем настроении, а некая высшая, благородная сдержанность в манере поводить плечом облекалась, чтобы оттенить себя, в черный крепдешин, блиставший улыбкой великих жертвоприношений. И в то же время к этим ярким платьям сложность «гарнитуров», не преследовавшая никаких практических целей, не желавшая выделяться, прибавляла что-то свое, бескорыстное, задумчивое, таинственное, сливавшееся с грустью, которая всегда жила у г-жи Сван — хотя бы в пальцах и в синеве под глазами. Помимо обилия брелоков с сапфирами, эмалевых четырехлистников, серебряных медальончиков, золотых медальонов, бирюзовых амулетов, цепочек с рубинами, топазовых ожерелий, рисунок на кокетке самого платья, заявлявший о своем давнем происхождении, ряд атласных пуговичек, ничего не застегивавших и не расстегивавшихся, сутаж, которому хотелось доставить нам удовольствие добросовестностью, сдержанностью скромного напоминания о себе, все это в такой же мере, как драгоценности, словно стремилось, — а иначе оно не имело бы права на существование, — открыть некую тайну, быть обетованием любви, выражать признание, содействовать суеверию, сохранить воспоминание об исцелении, о клятве, о страсти или об игре в фанты. А иногда в синем бархате корсажа скрывался намек на разрезы эпохи Генриха II, небольшие утолщения на рукавах — у самых плеч — черного атласного платья напоминали о «буфах» 1830-х годов, а такие же утолщения под юбкой — о «фижмах» времен Людовика XV, и все это неприметно для глаза превращало платье в стильный костюм и, вводя неясное воспоминание о прошлом, в настоящее, придавало г-же Сван прелесть исторических героинь или героинь романов. И когда я спросил ее о гольфе, она ответила так: «В отличие от многих моих приятельниц, я в гольф не играю. Им простительно надевать sweater, а мне нет».
В салонной суете, проводив одного гостя или передавая другому блюдо с пирожными, г-жа Сван, проходя мимо меня, успевала шепнуть: «Жильберта просила меня не забыть пригласить вас на послезавтра. Я не знала наверное, увижу ли я вас сегодня, но если б вы не пришли, я бы вам написала». Я упорствовал. И это упорство стоило мне все меньше и меньше усилий: ведь как бы, человек ни любил себя растравлять, но если его лишить это» возможности, немного погодя он непременно оценит покой, от которого он отвык, то, что он уже не мучается и не волнуется». Мы не совсем искренни, когда уверен, что нам больше не захочется увидеть любимую, но мы не совсем искренни и когда уверяем, что нам хочется ее видеть. Конечно, разлука терпима, только если знаешь заранее, что долго она не продлится, если отсчитываешь минуты до того дня, когда ты должен увидеться с любимой, и в то же время ты чувствуешь, насколько постоянные мечты о близком, но все дальше откладываемом свидании менее мучительны, чем сама встреча: ведь встреча может вызвать ревность, — вот почему при известии о том, что ты увидишь любимую, тебя охватит безрадостное волнение. Ты уже откладываешь со дня на день не конец тоски, сопряженной с разлукой, а угрозу возобновления безысходной тревоги. Насколько же дороже встречи послушное воспоминание, которое можно как угодно дополнять вымыслом, так что, когда ты остаешься один на один с самим собой, женщина, которая на самом деле тебя не любит, вдруг начинает объясняться тебе в любви! Воспоминание, к которому ты волен понемногу прибавлять все, что тебе хочется, пока оно не станет для тебя вполне отрадным, — насколько же оно дороже откладываемой беседы, во время которой ты не только не продиктуешь собеседнице слов, какие тебе хотелось бы от нее услышать, но получишь новые доказательства ее холодности, ее неожиданной резкости! Когда мы уже не любим, забвение и даже смутное воспоминание не причиняют такой сильной боли, как несчастная любовь. Вот такая успокоительная тишина предвкушаемого забвения, — хотя я в этом себе не признавался, — и была мне всего дороже.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу