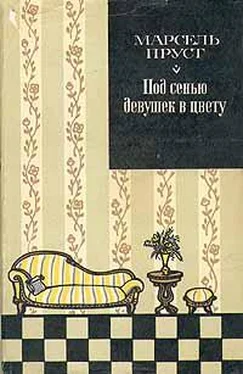В первый же вечер я услышал, что, уходя, она сказала хозяйке:
— Стало быть, мы уговорились: завтра я свободна, а если кто придет, не забудьте за мной прислать.
После этого я уже не мог смотреть на нее как на личность, — я тут же причислил ее к категории женщин, которые каждый вечер являются сюда в надежде заработать от двадцати до сорока франков. Она только выражалась по-разному: «Если я вам понадоблюсь», или «Если вам кто понадобится».
Хозяйка понятия не имела об опере Галеви и оттого не могла взять в толк, почему я прозвал эту девицу «Рахиль, ты мне дана». И тем не менее моя шутка казалась ей остроумной, и, всякий раз смеясь от души, она говорила:
— Стало быть, сегодня мне еще не надо сводить вас с «Рахиль, ты мне дана»? Ведь вы ее так называете: «Рахиль, ты мне дана»? Очень остроумно! Вот я вас поженю. Вы не пожалеете.
Как-то раз я совсем было решился, но Рахиль оказалась «под прессом», в другой раз она попала к почтенного возраста цирюльнику, который довольствовался тем, что лил женщинам масло на распущенные волосы, а потом причесывал их. Мне надоело ждать, хотя весьма скромного вида женщины из числа «постоянных», будто бы работницы, нигде, однако же, не работавшие, начали приготовлять мне шипучку и завели со мной долгий разговор, которому — несмотря на серьезность тем — частичная и полная нагота моих собеседниц придавала соблазняющую простоту. А потом я в знак хорошего отношения к женщине, содержавшей дом и нуждавшейся в мебели, подарил ей кое-какие вещи, — в частности, большой диван, — доставшиеся мне в наследство от тети Леонии, и из-за этого перестал здесь бывать. Я даже не видел тетиной мебели — у нас и так было тесно, и мои родители велели свалить ее в сарай. Но когда на моих глазах эти женщины стали пользоваться ею, мне почудилось, будто все добродетели, которыми дышала тетина комната в Комбре, страдают от грубых прикосновений и что на эту пытку обрек беззащитные вещи я! Если б я посягнул на мертвую, я бы не так мучился. Больше я ни разу не был у сводни: мне казалось, что вещи — живые и что они обращаются ко мне с мольбой, вроде неодушевленных по виду предметов из персидской сказки, в которых, однако, заключены души, преданные на муку и молящие об освобождении. Но память обычно развертывает перед нами воспоминания не в хронологическом порядке, а в виде опрокинутого отражения, и потому я лишь много позднее вспомнил, что несколько лет назад я на этом самом диване впервые познал упоение любви с троюродной сестрой, которая, заметив, что я раздумываю, где бы нам расположиться, дала мне довольно опасный совет воспользоваться временем, когда тетя Леония встает и уходит в другую комнату.
Всю остальную мебель, а главное — великолепное старинное серебро тети Леонии, я, наперекор желанию родителей, продал, чтобы иметь возможность посылать больше цветов г-же Сван, которая, получив громадные корзины орхидей, говорила мне: «На месте вашего отца я бы над вами учинила опеку». Мог ли я предполагать, что когда-нибудь пожалею именно об этом серебре и что удовольствию делать приятное родителям Жильберты, — удовольствию, которое, быть может, потеряет в моих глазах всякую цену, — я предпочту другие? Тоже ради Жильберты, чтобы не расставаться с ней, я отказался от места в посольстве. Твердые решения человек принимает только в таком душевном состоянии, которое длится недолго. Я с трудом мог себе представить, каким образом совершенно особая субстанция, которая была заложена в Жильберте, которую излучали ее родители, ее дом и из-за которой я стал безучастен ко всему остальному, — каким образом эта субстанция может отделиться от нее и переселиться в другое существо. Субстанция, без сомнения, останется той же самой, но на меня она уже будет производить другое впечатление. Одна и та же болезнь развивается и один и тот же сладкий яд действует сильнее, когда с течением времени ослабеет сердечная деятельность.
Между тем мои родители изъявляли желание, чтобы ум, который нашел у меня Бергот, проявился в каком-нибудь замечательном труде. До знакомства со Сванами я считал, что мне мешает работать возбуждение, вызывавшееся невозможностью свободно встречаться с Жильбертой. Но, после того как двери ее дома открылись для меня, стоило мне сесть за письменный стол, и я уже вставал и мчался к Сванам. Когда же я возвращался от них домой, мое уединение было кажущимся, моя мысль была не в силах плыть против течения слов, по которому я до этого часами бессознательно плыл. В одиночестве я все еще составлял фразы, которые могли понравиться Сванам, и, чтобы сделать игру еще более увлекательной, говорил за своих отсутствующих собеседников и задавал себе такие вопросы, чтобы в удачных ответах проступил блеск моего остроумия. Это безмолвное упражнение: представляло собой, однако, беседу, а не размышление; мое уединение было жизнью выдуманного салона, где не я сам, а мои воображаемые собеседники направляли мою речь и где, вместо мыслей, которые я считал верными, я пытался выразить другие, приходившие мне в голову без всяких усилий с моей стороны и не западавшие вглубь; это было абсолютно пассивное наслаждение, вроде того, какое человеку, ощущающему Тяжесть в желудке, доставляет полный покой.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу