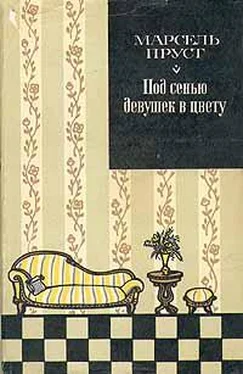Общеизвестно, что ребенок бывает похож и на отца и на мать. Но распределение достоинств и недостатков происходит очень странно: из двух достоинств, у кого-нибудь из родителей представляющихся нераздельными, у ребенка проявляется только одно, и притом в сочетании с недостатком другого родителя — казалось бы, несовместимым. Более того: врастание душевного качества в противоположный ему физический недостаток часто является законом семейного сходства. Одна из двух сестер унаследует вместе с горделивой осанкой отца мелочную натуру матери; другая, умом вся в отца, покажет этот ум в обличье матери: такой же толстый нос, бугристый живот и даже голос матери превратятся у нее в покровы дарований, которые прежде славились величественной внешностью. Таким образом, о каждой из сестер можно с достаточным основанием говорить, от кого ей больше передалось — от отца или от матери. Жильберта была, правда, единственной дочерью, и все же существовало, по крайней мере, две Жильберты. Две натуры, отцовская и материнская, не слились в ней; они боролись за нее, но и это будет неточное выражение: из него можно заключить, будто некая третья Жильберта страдала от того, что являлась добычей тех двух. Итак. Жильберта бывала то той, то другой, а в каждый определенный момент — какой-нибудь одной, например неспособной, когда она бывала не такой хорошей, от этого страдать, потому что лучшая Жильберта по причине своего кратковременного отсутствия не имела возможности заметить этот изъян. Равным образом худшей из двух могли доставлять удовольствие довольно пошлые развлечения. Когда в одной говорило отцовское сердце, у нее появлялась широта взглядов, и тогда вам хотелось совершить вместе с ней какое-нибудь благородное, доброе дело, вы говорили ей об этом, но в тот момент, когда надо было решиться, вступало в свои права материнское сердце; и отвечало вам оно; и вы были разочарованы и раздражены — почти озадачены, как будто человека подменили, — мелочностью соображений и неспроста отпускаемыми шуточками, забавлявшими Жильберту, ибо они исходили от той, какою она была в настоящий момент. Разрыв между двумя Жильбертами бывал иногда велик настолько, что вы задавали себе — бессмысленный, впрочем, — вопрос: что вы ей сделали, почему она так переменилась? Она же сама назначила вам свидание и не только не пришла, не только не извинилась, но, — независимо от того, что помешало ей прийти, — представала перед вами потом настолько другой, что вам могло бы показаться, будто вы — жертва обманчивого сходства, на котором построены «Близнецы», будто это не она с такою нежностью в голосе говорила, как ей хочется вас видеть, — могло бы, если б не ее плохое настроение, под которым таились сознание вины и желание избежать объяснений.
— Да иди же, ты нас задерживаешь, — сказала ей мать.
— Мне так уютно около папочки! Еще минутку! — попросила Жильберта и уткнулась головой в плечо отца, ласково перебиравшего белокурые ее волосы.
Сван принадлежал к числу людей, которые долго жили иллюзиями любви и которые убедились, что, позаботившись о благосостоянии многих женщин и тем осчастливив их, они не заслужили признательности, не заслужили нежности; зато в своем ребенке они ощущают привязанность, которая воплощена даже в фамилии и благодаря которой они будут жить и после смерти. Шарля Свана не будет, зато будет мадмуазель Сван или мадам X., урожденная Сван, и она будет любить по-прежнему своего ушедшего из жизни отца. Может быть, даже слишком горячо любить, — наверное, думал Сван, потому что он сказал Жильберте: «Ты хорошая девочка», — растроганно, как говорят люди, тревожащиеся за судьбу человека, которому суждено пережить нас и который слишком к нам привязан. Чтобы скрыть волнение, Сван принял участие в нашем разговоре о Берма. Обращаясь ко мне, он заметил, — тон у него был, однако, равнодушный, скучающий, словно ему хотелось дать понять, что это его не очень затрагивает, — как умно, как неожиданно правдиво прозвучали у актрисы слова, которые она говорит Эноне: «Ты Это знала!» Он был прав: верность, по крайней мере, этой интонации была мне в самом деле ясна и, казалось бы, могла удовлетворить мое желание подвести прочный фундамент под мее восхищение игрою Берма. Но именно в силу своей понятности она его и не удовлетворяла. Интонация была деланная, заранее придуманная, однозначная, она существовала как бы сама по себе, любая умная актриса сумела бы ее найти. Мысль была прекрасная, но кто вполне постигнет ее, тому она и достанется. За Берма сохранялось то преимущество, что она ее нашла, но можно ли употреблять слово «найти», когда речь идет о нахождении чего-то такого, что не отличается от заимствованного у других, чего-то такого, что по существу принадлежит не вам, коль скоро кто-нибудь другой может это воспроизвести вслед за вами?
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу