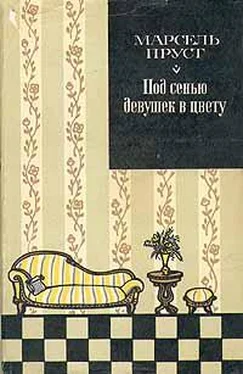Когда Блок заговорил со мной о том, что я будто бы переживаю приступ снобизма, и добивался от меня ответа на вопрос, сноб я или нет, я мог бы ему ответить:
«Будь я снобом, я бы с тобой не знался». Но я только заметил, что он не слишком любезен. Он стал извинятья, но так, как извиняется дурно воспитанный человек, которому доставляет огромное удовольствие повторять свои слова, тем самым оттеняя их. «Ты уж меня прости, — говорил он мне при каждой встрече, — я тебя огорчил, я причинил тебе боль, я был с тобой жесток без всякой причины. И все же, — человек вообще и твой друг в частности — странное животное, — ты не можешь себе представить, как нежно — несмотря на мои злые шутки — я тебя люблю. Часто, думая о тебе, я плачу — именно от нежности». И тут он всхлипнул.
Еще больше, чем дурные манеры, меня удивляло, что он был очень неровен как собеседник. Этот разборчивый мальчишка, говоривший о наиболее читаемых писателях: «Полный идиот, круглый дурак», иногда весело рассказывал анекдоты, в которых не было ничего смешного, и ссылался, как на «действительно замечательного человека», на совершеннейшую бездарность. Эта двойственность, проявлявшаяся у него в суждениях об уме человека, об его достоинствах, об его интересности, удивляла меня до тех пор, пока я не познакомился с Блокомотцом.
Я не предполагал, что мы когда-нибудь удостоимся чести познакомиться с ним: Блок-отец отрицательно отозвался обо мне в разговоре с Сен-Лу, а в разговоре со мной — о Сен-Лу. Роберу Блок сказал, что я (всегда!) был ужаснейшим снобом. «Да, да, он счастлив, что знаком с Л-л-л-легранденом», — объявил он. Манера выделять то или иное слово являлась у Блока выражением иронии и вместе с тем изысканности. Фамилия Леграндена ничего не говорила Сен-Лу. «Кто это?» — спросил он с удивлением. «О, это человек весьма почтенный!» — смеясь, ответил Блок, зябко засовывая руки в карманы пиджака, и в эту минуту ему казалось, что он видит перед собой колоритную фигуру из ряда вон выходящего провинциального дворянина, по сравнению с которым провинциальные дворяне Барбе д'0ревильи — ничто. Блок не сумел бы нарисовать портрет Леграндена, — он вознаграждал себя тем, что увеличивал число «л» в его фамилии и смаковал ее как самое вкусное вино. Это были его субъективные ощущения — никто их с ним не разделял. Если он отрицательно отозвался обо мне в разговоре с Сен-Лу, то ведь столь же отрицательно отозвался он о Сен-Лу в разговоре со мной. Мы на другой же день узнали во всех подробностях, как он нас расписал, хотя мы ничего друг другу не передавали, — мы оба сочли бы это постыдным, а Блок, напротив, считал это вполне естественным и почти неизбежным; встревоженный, будучи уверен, что сообщает ему и мне то, что мы все равно узнаем, он предпочел забежать вперед и, отведя Сен-Лу в сторону, признался, что говорил о нем плохо нарочно, чтобы ему это передали, поклялся «Кронионом Зевсом, хранителем тайн», что любит его, что готов отдать за него жизнь, и смахнул слезу. В тот же день он, выбрав время, когда я был один, покаялся и заявил, что действовал в моих интересах, ибо, по его мнению, некоторые светские знакомства для меня пагубны и вообще я «могу претендовать на лучшее». Тут Блок, расчувствовавшись, как пьяный, хотя опьянение его было чисто нервное, взял меня за руку. «Верь мне, — сказал он, — пусть меня сейчас же схватит черная Кера и увлечет за порог ненавистного людям Гадеса, если вчера, думая о тебе, о Комбре, о безграничной нежности, какую я к тебе испытываю, о том, как мы с тобой вместе учились, хотя ты-то этого не помнишь, я не рыдал всю ночь. Да, всю ночь, клянусь тебе, но увы: я знаю человеческую душу, и я убежден, что ты мне не веришь». Я и в самом деле не верил; клятва с упоминанием Керы не придавала большого веса его словам, которые, как мне подсказывало мое чутье, он только сейчас придумал, ибо эллинский культ был у Блока чисто литературным. Расчувствовавшись и желая, чтобы кто-нибудь другой расчувствовался от его лжи, он всякий раз восклицал: «Клянусь тебе»; впрочем, он произносил эти слова не столько потому, что непременно хотел убедить другого в своей искренности, сколько потому, что, когда он лгал, он испытывал какое-то истерическое наслаждение. Я не верил ему, но не сердился, потому что унаследовал черту моей мамы и бабушки: я не возмущался даже теми, кто поступал гораздо хуже, и никогда никого не осуждал.
Впрочем, о Блоке нельзя было сказать, что он безнадежно испорчен, он мог быть и очень мил. И с тех пор как комбрейское племя, к которому принадлежали люди такой безупречной порядочности, как моя бабушка и моя мать, почти вымерло и у меня не осталось иного выбора, кроме как между честными животными, бесчувственными и преданными, самый звук голоса которых сразу дает понять, что ваша жизнь их совершенно не интересует, и другой породой людей, которые, пока они с вами, понимают вас, обожают вас, умиляются до слез, несколько часов спустя вознаграждают себя за это жестокой шуткой над вами, а затем возвращаются к вам все такие же чуткие, такие же очаровательные, так же мгновенно к вам приноравливаются, я, пожалуй что, отдаю предпочтение этому сорту людей — отдаю «е потому, чтобы они были лучше по душе, а потому, что их общество мне нравится больше.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу