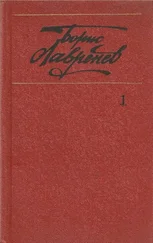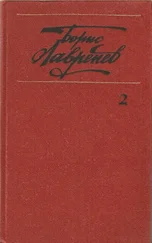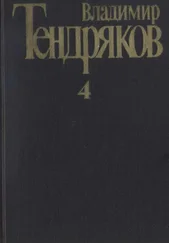Бег, закрыв глаза, жевал беззубым ртом и издавал звуки, похожие не то на зубовный скрежет, не то на храп.
А Симан, подчиняясь неодолимой потребности высказать все, что накопилось на сердце, хоть кому-нибудь, пусть даже этой полумертвой колоде, продолжал:
— Все мне твердят: не надо было говорить и делать то, что я говорил и делал, не время, мол, лучше молчать, набрав в рот воды, да делать свое дело. Кто его знает, может, и так. Но вижу я, что выходит-то по моим словам: умерло право аги и родилось кметовское! Никто только этого еще не видит, а я вижу!
Крестьянин нагнулся к бегу и, как бы поверяя ему важную тайну и тем оказывая большую честь, мягко, с достоинством продолжал:
— Знаешь, Салих-бег, я тебя уважаю, как друга и товарища уважаю! Уважаю! И пусть меня бог накажет, ежели я тебя обижу чем или забуду твой хлеб-соль. Сохрани бог! Уважаю! А все же с кметовским правом и с хаком неладно у нас, несправедливо, и так долго не протянется. Сегодня Симан — бездомный бродяга, нет у него ни земли, ни дома, люди от него отворачиваются, всякая мразь над ним смеется. Васо Генго командует, плешивый Хусо гонит не только из канцелярии, но и из суда. Мешаю я ему, видишь ли. Запрещается, говорит. Эхма, «запрещается»! А я вот опять, Салих-бег, не в обиду тебе скажу: у Симана есть право, есть, только вот малость ошибся он, раньше срока прокукарекал. Обманул меня сукин сын шваб! А право у Симана есть! Есть!
Крестьянин отодвинулся от бега, скрипнул зубами, ударил ладонью по столу и, задыхаясь от тяжелого чахоточного кашля, низким голосом, словно пел под гусли, заговорил снова:
— Есть, Салих-бег, поверь, есть! Ладно, пускай я дурак и пропащий человек. Пускай! После меня придут люди лучше и умнее, и они-то уж сведут счеты с агами и судьями, так что и им не сладко придется. Мне не дождаться этого, но я твердо знаю и вижу, вот как эту ракию несчастную, что стоит передо мной: придет день, когда аги и беги будут, как я, топтаться перед канцеляриями с прошениями и законами в суме, и никто не станет читать их бумажки и даже разговаривать с ними не захочет. Люди будут смеяться над ними, как сейчас надо мной смеются. Только этот смех будет громче и сильнее: от него вся Босния затрясется. От меня к тому времени останется горсть костей, меня не будет, но лучших поминок мне не надо, тогда я оживу, а сейчас я мертвый.
И Симан разглагольствовал о том, чего никогда не было и, как говорят люди, быть не может, но что все же должно быть. То были смелые, бунтарские мысли, днем они не приходят в голову и их не высказывают вслух; сейчас же в этом глухом углу, над обмелевшей рекой, чье журчание едва слышалось, в крестьянине словно не ракия говорила, а сама правда, красноречивая, прозорливая и бесстрашная правда глубокой ночной поры.
И Симану было приятно, что он не боится высказать ее в лицо самому бегу, пусть и полумертвому от ракии. Иногда бег бывал и не настолько пьян, как казалось, и сквозь пьяный шум и туман в голове до него доходило если не все, то по крайней мере главное. Мало-помалу в нем вскипало яростное негодование, однако язык не повиновался и ноги не слушались, он только шевелил справа налево указательным пальцем и этим едва заметным жестом как бы отвергал то, что слышал. На большее он был неспособен, но хоть таким образом давал понять мужику, что не согласен с ним.
Наступала ночь. Все умолкало, гас свет, и только осколок словно стеклянной и умытой луны светил еще некоторое время над мрачной котловиной.
Хозяин закрывал ставни на окнах, запирал двери и укладывался спать; бега и Симана, получив с них за выпитое, он оставлял на террасе у реки, как людей без угла и крова, с которыми можно особенно не церемониться и которые скоро — один раньше, другой позже — кончат свой век где-нибудь на скамейке, прислонившись к стене трактира.
Змея {21}
© Перевод И. Лемаш
По уходящей вдаль белой дороге, пересекающей гласинацскую равнину, не спеша катилась элегантная светло-желтая коляска, в которую была впряжена пара добрых низкорослых вороных в богатой сбруе. В коляске сидели две молодые девушки в одинаковых серых пальто из легкого шелка и широкополых соломенных шляпах с вуалями. На облучке ссутулился с трубкой в зубах кучер, краинец. На его лохматых бровях, рыжей бороде и усах лежала белая, как мука, пыль. Это ехали из Сараева в Вышеград дочери генерала Радаковича, Агата и Амалия. Месяц назад они поселились в Сараеве, где с весны служил их отец.
Отец, седой, но стройный и румяный генерал, происходил из венской военной семьи Радаковичей, уже сто пятьдесят лет поставлявшей императору офицеров. Его предки были личанами, но со временем совершенно онемечились и уже пять-шесть поколений считались коренными венцами. Не без кокетства они утверждали, что их род идет от каких-то боснийских князей, чему в их фамильном гербе, выгравированном на массивных перстнях, которые они все носили, имелись геральдические подтверждения. Возможно, и эта легенда, и сербская фамилия способствовали тому, что нынешней весной генерал был переведен в оккупированную Боснию командиром дивизии с резиденцией в Сараеве.
Читать дальше