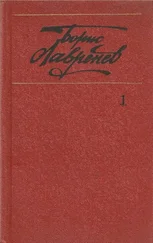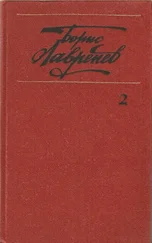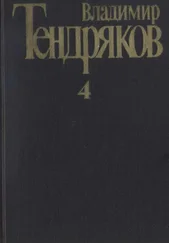Таков был хозяин Симана и такова была его доброта.
О самом Симане тоже не скажешь, что он плохой кмет, хотя и хорошим его назвать трудно. Вернее всего, он по своему и хорош и плох.
Другие кметы стараются отравить жизнь аге: отлынивают от работы, обманывают, тянут, пускаются на мелкие хитрости при внесении хака, то есть трети урожая зерна, половины сбора овощей и фруктов и половины укоса сена. Симан не умел хитрить, не способен был на бессмысленное упрямство. Аге он отдавал почти все, что было положено, но решительно отказывался доставлять хак на дом, в город; ни за что не соглашался, подобно другим кметам, быть кулучаром, то есть пять-шесть дней в году работать в хозяйстве аги. Вообще держался перед агой гордо, с достоинством и вел себя независимо.
Ибрага мог найти способ сбить спесь со своего кмета, однако почитал, что выгоднее ничего не замечать и получать хороший хак. Поэтому он терпел мелкие причуды кмета, считая их тем наименьшим злом, которое неминуемо, как тень, сопровождает все хорошее и полезное в мире, в том числе и положенную ему третину. Он сам ежегодно отправлялся за своей долей урожая, делая вид, что это для него забава и развлечение, и никогда не заставлял Симана выполнять домашние работы, говоря, что в этом нет надобности.
Так, без особых столкновений, жили кмет и его ага — скрытые, но непримиримые враги, как цепью, связанные землей, которая кормила их и притягивала, каждого на свой лад.
Той осенью, когда австрийские войска заняли Боснию, нередко случалось, что ага, страшась ехать в село и требовать свою долю, оставался без хака, а кмет, пользуясь общим замешательством и желая увидеть, какие будут законы «под новым царем», придерживал и свою и господскую часть.
У Ибраги положение было особое. Его кмет был, можно сказать, под боком, в часе пути от лавки, к тому же он и раньше сам ездил за своей долей. Как только в Сараеве немного утихло и наладился какой-то порядок, он стал наводить справки у сведущих людей и у новых властей, и все его заверили, что в отношениях между агами и кметами «пока» ничего не меняется, ага, как и прежде, пользуется правом на хак.
И вот однажды Ибрага решил съездить в свое поместье за сливами, — уродилось их в тот год видимо-невидимо, но из-за войны и всяческих перемен их еще не снимали.
Начало сентября. Солнечное утро. В саду на траве, заложив руки под голову, лежит Симан, над ним синеют сгибающиеся под тяжестью плодов ветви. Он блаженно улыбается, с головы до пят его наполняет одно чувство: все это принадлежит ему! Словно сквозь сон, доносится до него скрип калитки и голоса. Бросив в ту сторону беглый взгляд, он сразу смекает, в чем дело. Шорник приехал с работником на четырех лошадях за сливами. Симан подпускает его к себе совсем близко, прикидываясь, что ничего не видит и не слышит.
— Доброе утро, Симан!
— Воистину доброе, — отвечает Симан, не вставая. Ибрага проводит рукой по глазам и хватается за дерево, будто земля под ним закачалась.
Смотрит ага на дерзкого кмета, который вопреки закону и обычаю не встает перед ним, и не верит своим глазам: так вот каков кмет, когда в нем исчезают смирение и почтительность и он предстает во всей своей силе и мощи.
Долго смотрел Ибрага: с тех пор как аги — аги, а кметы — кметы, такого в заводе не было. Под личиной спокойствия «добрый ага» весь кипел от злости и оскорбленной гордости собственника, между тем победила трусливая предусмотрительность: кмет явно задумал недоброе, а времена сейчас тяжелые, смутные. И, взяв себя в руки, ага сел.
— Вот приехал сливы свои прибрать, — проговорил он глухим голосом.
— Ни к чему. Сливы в порядке, а понадобится прибрать — я и сам сумею.
Завязался необычный спор. Симан чуть приподнялся, но лишь для того, чтобы прямо в лицо аге бросать слова, к которым и сам прислушивался с удивлением.
Симан и раньше нередко впадал в горестные раздумья и где-нибудь в поле или на дороге разговаривал вполголоса сам с собой, еле приметно двигая головой и руками и шепча при этом то, что сказал бы каждый кмет, если бы вдруг произошло чудо и аги перестали быть агами, а кметы превратились бы в хозяев своей земли. (То были минуты дерзкого, но неслышного и потому безопасного бунта, когда угнетенный отводит душу и хотя бы в воображении вознаграждает себя за каждодневную муку своей серой жизни.) Да, у него бывали подобные минуты, но даже тогда он не находил таких сильных и смелых слов. Тысячи безмолвных бунтарских обличений прошлого, как тысячи потоков, слились в громогласную лавину слов. И Симан говорил.
Читать дальше