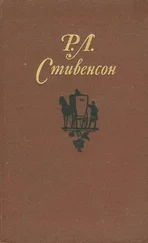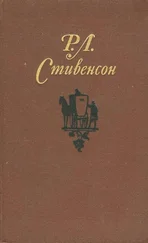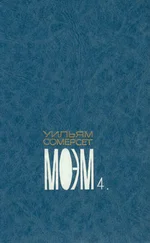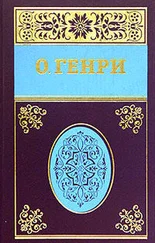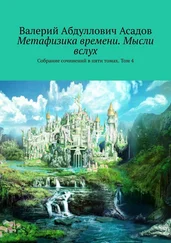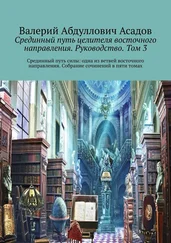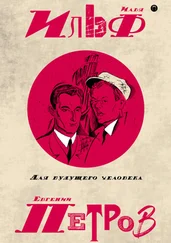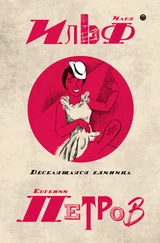Теперь, когда я вижу, наконец, своего отца освобожденным от безоговорочного преклонения и стараюсь лучше понять его, он предстает во многом человеком своего времени и своего круга. Нередко ошибавшийся, он мог принимать за догматы и догматически следовать сословным предрассудкам и предрасположениям, иногда не сознавая этого, а порой и сознательно, потому что приходится иногда (говорил он) быть узким оттого, что кругом все уже так широки стали, что и границы между добром и злом не различают, и решительно всего от всех ожидать стало можно…
Если вспомнить все, что им было сделано и делалось, невольно удивляешься огромности его размаха, самодисциплине, трудолюбию и, да, таланту. Таланту даже не художника, садовода или писателя, а таланту человека, настоящего большого человека, который и хотел быть прежде всего человеком, полагая в этом главное свое назначение. Но что осталось от этого подвига (иначе не умею сказать)? Рукописи, составляющие труд всей его жизни, погибли неизданные. Картины не сохранились, за незначительными исключениями в провинциальных музеях и частных собраниях. Семья, которой он жертвовал всем, даже любимым искусством, — от семьи уцелел меньше всего от него получивший, искалеченный с детства побег, ничего не умевший сделать из своей жизни, своей семьи, своих способностей… Кто помнит о нем сейчас, спустя четыре десятилетия после его смерти, сохранились ли на всем земном шаре десять человек, которые знали бы его и сколько-нибудь ценили? Вряд ли. Итог убийственный…
Но что мы знаем? Элементарная арифметика с ее итогами вообще ничего не может объяснить в нашей жизни, и я больше верю своему внутреннему ощущению, которое отвечает мне: ничто не напрасно. Ничто не пропадает из того, что нам кажется пропавшим, и не бухгалтерскими балансами решаются такие вопросы.
И все-таки, все-таки, где же все это? Что осталось? Ничего или почти ничего! Как трудно, как невозможно с этим примириться. Еще попадается изредка у московских букинистов роскошное Девриеновское издание сказки в стихах «Три сестры» с его текстом и иллюстрациями, где на отдельной странице отпечатана фотография трех моих старших братьев и сестры — детьми, с факсимильным оттиском посвящения:
Вам, дети милые, тебе, любимой дочке,
И всей подобной вам породе шалунов…
Дети сидят за столом над раскрытой книгой. Их четверо, меня еще нет на свете. Теперь есть еще я, но из них уже нет ни одного…
Тогда, чрез много лет, когда меня не будет,
В осеннем сумраке угаснувшего дня,
Когда холодный мир давно меня забудет,
Быть может, иногда вы вспомните меня…
Ни один из них уже не вспомнит… И ведь это же самое раннее. Есть еще неоконченная юношеская поэма «Дон-Жуан», изданная Кушнеревым, маленький сборничек стихов, фельетонов и очерков «Обо всем и о прочем». Несколько сцен из первого варианта перевода «Гамлета» Шекспира. Первые пробы пера… Сохранились, потому что были напечатаны. Но ведь это то же самое, как если бы от Гоголя дошел один только «Ганс Кюхельгартен», от Некрасова — чахлый сборник «Мечты и звуки». Между тем, талант его вызревал медленно. Основные работы созданы им после 1905, даже 1910 года, то есть в последнее десятилетие жизни. И не осталось даже черновиков… У меня в комнате висит сделанный его пером портрет императрицы Еписаветы, с царствованием которой, как говорилось выше, совпадает начало «Семейной хроники», а в папке хранится несколько страниц из «Хроники» — начальные страницы трех глав с его заставками да еще рукопись предпосланного «Хронике» очерка «Curriculum Vitae» [17].
Помню, как-то вечером, уже засыпая в своей кровати, я раскрыл глаза от света лампы. Лампу держала в руках мама, а он подходил ко мне. Перекрестив меня, сонного, он сделал маме строгое замечание за то, что на моей ночной рубашке все пуговицы, даже на горле, оказались застегнутыми: «Ему же душно так, а во сне рубашка съедет на бок, и он себе еще больше перетянет горло. Удивляюсь: за чем вы только смотрите?» — и, нагнувшись, он отстегнул две верхние пуговки. Я притворился спящим и действительно тут же заснул и, кажется, даже не слышал, как они уходили. Но с этих пор, целые годы, ложась спать, уже сам проверял, чтобы именно две пуговки, которые были им тогда расстегнуты, находились в соответствии с данным им указанием, неизменно вспоминая с теплым чувством его заботу. А что мне тогда было? Меньше пяти лет. И никто от меня не слышал об этом ни слова… Конечно, очень многое, более существенное, ускользало в те годы от моего внимания, и только эти пуговки упали на особенно благодатную почву. Почему? Должно быть, самая интонация и даже раздражение на маму из-за такой мелочи впервые, может быть, были почувствованы особенно сильно, обнаружив, как близко принимает он к сердцу все, имеющее ко мне малейшее отношение. Или просто дело в том, что, не отвлекаемый ничем вокруг, я за секунды до сна воспринял этот случай сознанием, не отягченным никакими дневными впечатлениями и волнениями. Как бы то ни было, проверка пуговок перед сном стала для меня с этого дня чем-то совершенно обязательным, несмотря на то, что никто мне ее в обязанность не вменял.
Читать дальше