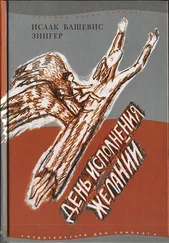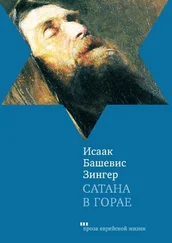Да уж, нелегко пришлось. Сначала ей пришлось усыпить его подозрения. Потом надо было пробудить во мне желание. Мы занимались этим, когда он спал. Или притворялся, что спит. Двое из оставшихся четверых занимались любовью друг с другом. До чего может дойти человеческое существо… Какой стыд! Если человек создан по образу и подобию Бога, я Богу не завидую…
Мы все это терпели, мы прошли все степени человеческой деградации — все, что только можно и что нельзя вообразить. Но мы не теряли надежды. Спустя некоторое время мы покинули тайник и ушли. Каждый своим путем. Зигмунта схватили и замучили до смерти. Его жена — моя мистрисс, как сказали бы здесь, в Америке, — бежала в Россию, там вышла замуж за беженца, недавно умерла от рака в Израиле. Один из этих четверых теперь богач. Живет в Бруклине. Теперь он заделался праведником, кается во всех мыслимых грехах, дает деньги Бобовскому рабби, а может еще какому-то. Писатель, которого я упоминал — он что-то вроде критика, — утверждает, что наша литература должна сконцентрироваться исключительно на святости и мученичестве. Вот уж чушь! Глупейшая ложь!
— Пишите всю правду, — сказал я.
— Прежде всего, я не умею. Не знаю как. Во-вторых, я будто каменею. Видимо, я вообще не способен писать. Лишь сажусь и беру перо, начинает болеть рука. Еще и впадаю в дремоту. А что пишете вы, я читал. Порою мне казалось, будто вы крадете мои мысли.
Не следовало бы вообще говорить об этом, да уж все равно. Скажу Майами-Бич переполнен вдовицами. Как они прослышали, что я остался один, начались звонки и визиты. Не перестают до сих пор. Подумать только! Мужчина остался один, да и к тому же у него вроде бы миллионы? Я стал пользоваться бешеным успехом. Просто неловко. Вообще-то мне нравится быть вместе с кем-нибудь. После похорон и прежде чем состоятся ваши собственные, можно ухватить кусочек свинства, именуемого удовольствием. Но женщины не для меня. Какая-нибудь ента [35] Ента — снисходительно, слегка пренебрежительно о женщине.
приходит ко мне и плачется: «Не хочу жить, как моя мать, с комплексом вины. Хочу взять от жизни все, что можно, и даже больше». А я ей на это: «Беда в том, что не каждый может…» Мужчины и женщины — то же, что Яков и Исав: если один возвышен, другой унижен. Если женщины становятся распутницами, мужчины превращаются в перепутанных девственников. Как сказал пророк: «Семь женщин прилепятся к одному мужчине». Ну и что вообще будет? Как вы думаете? Вот, к примеру, будут ли писатели продолжать писать через пятьсот лет?
— Очень даже. И о тех же самых вещах, что и сегодня, — ответил я.
— Предположим. А через тысячу лет? Через десять тысяч? Боюсь и подумать, что род человеческий сохранится так долго. А как тогда будет выглядеть Майами-Бич? Сколько будет стоить квартира?
— Майами-Бич окажется под водой, — сказал Ривен, — а квартира с одной спальней — для рыбы — будет стоить пять триллионов долларов.
— А что будет в Нью-Йорке? В Париже? В Москве? И останутся ли еще евреи?
— Только евреи и останутся, — сказал Казарский.
— Останутся? И какие же они будут?
— Полоумные евреи. В точности как вы.
В субботу днем на крыльце разговаривали о разном. Случилось так, что речь завала о хедере: о меламедах, бегельферах, о мальчишках из хедера. Соседка наша Хая Рива жаловалась, что ее внуку учитель закатил такую оплеуху, что у того зуб вылетел. Вообще-то меламед этот — Михель его звали — был известен как хороший учитель. Но уж и щипался же он! Как ученики говорили, если Михель ущипнет, аж Краков увидишь. И затрещину мог дать — искры из глаз посыпятся. Прозвище у него было «Почеши-ка меня!». Потому что, если у него спина чесалась, он давал свой кнутик кому-нибудь из учеников и просил почесать под рубашкой.
На крыльце сидела тетя Ентл, а с нею еще Рейзе Брендл — обе в чепцах, в нарядных цветастых платьях. Чепец на тете Ентл был шит стеклярусом и еще отделан четырьмя лентами: желтая, белая, красная, зеленая. Я сидел тут же и слушал. Тетя Ентл глянула вокруг, улыбнулась. На меня посмотрела.
— Что тебе тут сидеть с нами? Нечего мальчику делать среди женщин. Шел бы лучше почитал «Пиркей авот».
Ясное дело, она собирается рассказать какую-то историю. И это не для ушей одиннадцатилетнего мальчика. Я ушел в дом. Но остался в сенях. Спрятался в чулане, где мы держали пасхальную посуду, там же — кадушка с рваными книгами, старая наволочка с давними отцовскими рукописями. Через широкие щели слышно было каждое слово. Я уселся на перевернутую тяжелую деревянную ступу, в которой толкли мацу на Пасху — муку из мацы делали. Сквозь щели заглядывало солнце, и в его лучах плясали разноцветные пылинки. Я услыхал, как тетя Ентл сказала:
Читать дальше
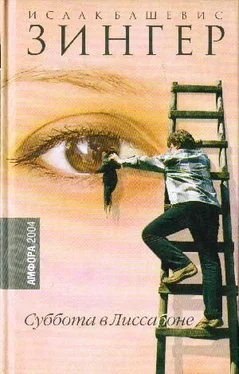


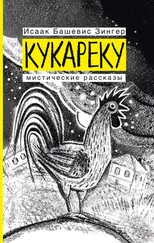

![Исаак Башевис-Зингер - Короткая пятница и другие рассказы[Сборник]](/books/148307/isaak-bashevis-thumb.webp)