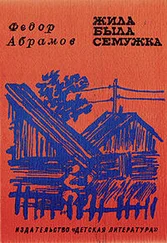— Да, шумное у нас детство было, голодное да холодное, а все равно самое лучшее. Правда, девочки?
— Правда твоя, Шура.
— Кто только за столом не сидел, кто только в общий чугун своей ложкой не лазил! Мы с Шурой из Белоруссии прибежали, Манечка — из Смоленщины, Коля — из Ленинграда, Люба да Дуся — с Новгородчины, а Леня вообще из табора пришел и грамоте не знал, только плясать и умел. Мы с твоей мамой старшие были, а остальные — мелкота.
— Мама Рая и мама Маня, — грустно улыбнулась тетя Люба.
— А как же я-то ничего не знала! — всхлипнула Клава. — Почему же мне мама ничего не рассказывала?
— Почему?
Переглянулись женщины.
— Обидели ее, — тихо сказала тетя Шура. — Сильно обидели. Голодно было очень, а мы росли, как на дрожжах, и одеть-то нас не во что: в школу в матерчатых тапочках всю зиму бегали. Вот наши старшие — мама Рая да мама Маня — и пошли работать. А где работать-то? Это сейчас тут и ткацкая фабрика, и механический завод, а тогда только и было работы, что вагоны на станции разгружать.
— И как это она родить-то тебя смогла, девочка, — вздохнула тетя Рая. — После тех-то мешков…
Все притихли, беззвучно вытирая слезы. Клава обождала немного и спросила:
— А с мамой что случилось?
— Обидели ее, — строго повторила тетя Шура: она вообще выглядела построже остальных. — В ночь пошла — ночью больше платили, — а Рая занемогла, и она одна пошла. А вернулась вся в синяках. Месяц болела, а потом сказала, что уйдет. Что не житье ей тут, что не может позора снести и уедет отсюда. И уехала. И не писала ни разу, только что деньги регулярно.
— Гордая она была и самостоятельная, — вздохнула тетя Дуся. — Даже деньги без обратного адреса посылала.
— Мы не могли больше, — давясь от слез, сказала Клава. — Вы простите нас.
— А мы присланных денег не тратили, — сказала тетя Рая. — Все нам высылали, не только ты с мамой, а нас тут трое оставалось: я, Дуся да Шура. И Марковна все переводы клала на книжку. А перед смертью волю свою сказала, чтоб все эти деньги отдать внукам, то есть сыновьям и дочерям приемных детей ее. На ученье, сказала. Мол, виновата, что не смогла детям образование дать, так чтоб хоть внуки учились. А таких внуков у нее шестеро с тобою вместе: мы ведь знали, что у Мани — девочка. Леня у нас один с образованием, юридический заочно прошел, так он тебе объяснит, как деньги эти получить…
— Нет! — вдруг крикнула Клава и затрясла головой, разбрызгивая слезы. — Нет, нет, нет, ни за что! Это… Это все — на памятник. Бабушке на памятник. Чтоб всех выше, чтоб как пример…
Ее затрясло, забило, новоявленные тетки со всех сторон бросились, обласкали, напоили лекарством, уложили в тихой комнате. Она пригрелась, успокоилась и уснула, потому что в поезде совсем не спала, а только дремала немного. А здесь, в комнате, в которой, может быть, когда-то спала мама, замечательно выспалась, и тетя Рая разбудила ее к столу.
— Вставай, доченька. — И поцеловала, как мама. — Уж все готово, уж собрались, даже этот обормот пришел, Дусин сын. Не иначе чтоб напиться на дармовщинку. Ох, безголовый, ох, хлебнула с ним Дуся!..
В большой комнате, где когда-то спали вповалку «дети» бабки Марковны, за накрытым столом сидели пришедшие и приехавшие. Старших Клава знала, а с молодыми — сыном тети Дуси и дочерью дяди Коли — виделась впервые. Впрочем, не впервые: когда белесый парень лениво бормотнул: «Виктор», она вспомнила крыльцо гостиницы, двоих, что рвались похмеляться, и озабоченность Сергея. Виктор оказался сыном названой сестры ее матери, а значит, родственником и ей, Клаве, и это ощущалось неприятно, хотя она очень жалела тетю Дусю и всячески старалась быть приветливой с ее беспутным сыночком.
А поминки совсем оказались не похожи на поминки, как их представляла Клавдия. Она ожидала некой вздыхательной скорби и потому накинула темный платок, который везла в подарок бабке Марковне. Но сидевшие за столом, торжественно и строго помянув свою Марковну, начали вспоминать веселое и озорное в их голодном, разутом и раздетом военном детстве. И радостно смеялись и кричали через стол: «Ленька, ты помнишь?.. Люба, а ты знаешь?..», и всем было легко и весело, кроме, может быть, белобрысого Виктора, который молча и жадно пил, тяжело и глупо пьянея. Он сидел наискось, через угол стола, пялился на Клаву, но как-то странно, словно без интереса, и Клаве это было вдвойне неприятно. Особенно когда он спросил:
— А ты чего с этим мильтоном на крыльце стояла? Знакомый он тебе, что ли?
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу