А вот пожилые люди на воле не несли на себе неповторимых примет прошлого времени, в них прошлое было стерто, они легко входили в облик нового дня, – они думали, переживали в соответствии с сегодняшним днем; их словарь, мысли, их страсти, их искренность покорно, гибко менялись с ходом событий и волей начальства.
Чем объяснялось это различие – быть может, в лагере человек, словно в анестезии, замирал?
Живя в лагере, Иван Григорьевич постоянно видел естественное стремление людей вырваться за проволоку, вернуться к женам и детям. Но на воле он иногда встречал отпущенных из лагеря людей, и их покорное лицемерие, их страх перед собственной мыслью, их ужас перед новым арестом были так всеобъемлюще велики, что эти люди казались прочней арестованными, чем в пору лагерных принудработ.
Выйдя из лагеря, работая по вольному найму, живя рядом с любимыми и близкими, такой человек обрекал себя иногда на высшее арестантство, более совершенное и глубокое, чем то, к которому принуждала лагерная проволока.
И все же в муках, в грязи, в мути лагерной жизни светом и силой лагерных душ была свобода. Свобода была бессмертна.
В маленьком городке, живя у вдовы сержанта Михалева, Иван Григорьевич шире, сильней стал ощущать смысл свободы.
В житейской борьбе, которую ведут люди, в ухищрениях рабочих, добывавших ночным трудом лишний рубль, в битве колхозников за хлеб и картошку, за свою естественную трудовую выгоду он угадывал не только желание жить лучше, досыта накормить детей и одеть их. В борьбе за право шить сапоги, связать кофту, в стремлении сеять, что хочет пахарь, проявлялось естественное, неистребимо присущее человеческой природе стремление к свободе. И это же стремление он видел и знал в лагерных людях. Свобода казалась бессмертна по обе стороны лагерной проволоки.
Как-то вечером после работы он стал перебирать в памяти лагерные слова. Бог мой, на каждую букву алфавита оказалось лагерное слово… А о каждом слове можно написать статьи, поэмы, романы…
Арест… барак… вертух… голод… доходяга… женские лагеря… зека… ИТЛ… ксива… – вот так до конца алфавита. Огромный мир, свой язык, экономика, моральный кодекс. Такими сочинениями можно заполнить книжные полки. Побольше, чем «История фабрик и заводов», затеянная Горьким.
Вот сюжет: история эшелона – формирование, эшелон в пути, охрана эшелона… Какими наивными, домашними кажутся современному этапированному эшелоны двадцатых годов, вояж политического в купе пассажирского вагона с философом-охранником, угощающим конвоируемого пирожками. Робкие зачатки лагерной культуры: седой каменный век, цыпленок, едва вылупившийся из яйца…
И нынешний шестидесятивагонный эшелон, идущий в Красноярский край: подвижный тюремный город, товарные четырехосные вагоны, зарешеченные окошечки, трехэтажные нары, вагоны-склады, штабные вагоны, полные надзирателей-вертухов, вагоны-кухни, вагоны со служебными собаками – они рыщут на стоянках вдоль эшелона; начальник эшелона, окруженный, подобно сказочному падишаху, лестью поваров, наложниц-проституток; поверки, когда в вагон влезает надзиратель, а прочие вертухи с автоматами, направленными в открытые двери теплушек, держат под прицелом заключенных, – тесной грудой сбились люди, а надзиратель ловко перегоняет помеченных заключенных из одной части вагона в другую, и, как бы стремительно ни кидался заключенный, вертух успевает поддать его палкой по заднице или по кумполу.
А недавно, уже после Великой Отечественной войны, были устроены под днищем хвостовых вагонов стальные гребенки. Если заключенный в пути разберет пол и бросится плашмя меж рельсов, гребенка ухватит его, рванет, швырнет под колесо – не вам, не нам; для тех, кто, проломав потолок, лезет на крышу вагона, установлены кинжальные прожектора – они пронзают тьму от паровоза до хвостового вагона, а пулемет, глядящий вдоль эшелона, ежели по крышам побежит человек, знает свое дело. Да, все развивается. Выкристаллизовалась экономика эшелона – прибавочный продукт, бытовое блаженство конвойных офицеров в вагоне-штабе, приварок с арестантского и собачьего котла, командировочные деньги, начисляемые пропорционально шестидесятидневному движению эшелона к восточносибирским лагерям, внутривагонный товарооборот, жестокое первоначальное вагонное накопление, параллельная ему пауперизация. Да, все течет, все изменяется, нельзя дважды вступить в один и тот же эшелон.
А кто опишет отчаяние этого движения, удаляющего от жен, эти ночные исповеди под железный стук колес и скрип вагонов, покорность, доверчивость, это погружение в лагерную бездну; письма, выбрасываемые из тьмы теплушек в тьму великого степного почтового ящика, и ведь доходили!
Читать дальше
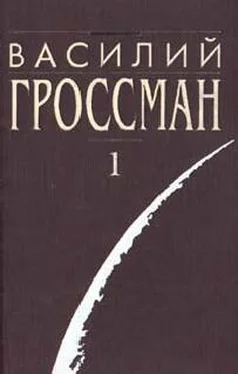
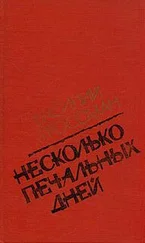
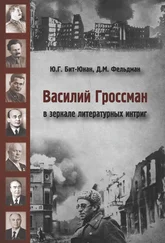
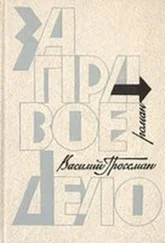

![Василий Гроссман - На еврейские темы [Избранное в двух томах. Книга 1]](/books/405742/vasilij-grossman-na-evrejskie-temy-izbrannoe-v-dv-thumb.webp)