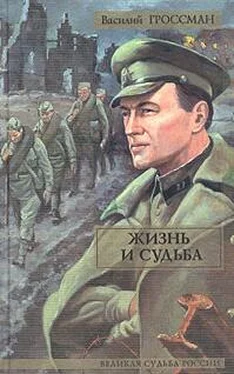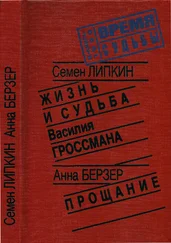Евгения Николаевна говорила Драгину:
– Более незлобивого, безответного человека я не встречала. Поверьте, она добрей всех, кто живет в этой квартире.
Драгин, пристально, по-мужски откровенно и нахально вглядываясь в глаза Евгении Николаевны, отвечал:
– Пой, ласточка, пой. Продались вы, товарищ Шапошникова, немцам за жилплощадь.
Женни Генриховна, видимо, не любила здоровых детей. О своем самом хилом воспитаннике, сыне еврея-фабриканта, она особенно часто рассказывала Евгении Николаевне, хранила его рисунки, тетрадки и начинала плакать каждый раз, когда рассказ доходил до того места, где описывалась смерть этого тихого ребенка.
У Шапошниковых она жила много лет назад, но помнила все детские имена и прозвища и заплакала, узнав о смерти Маруси; она все писала каракулями письмо Александре Владимировне в Казань, но никак не могла его закончить.
Щучью икру она называла «кавиар» и рассказывала Жене, как ее дореволюционные воспитанники получали на завтрак чашку крепкого бульона и ломтик оленины.
Свой паек она скармливала коту, которого звала: «Мое дорогое, серебряное дитя». Кот в ней души не чаял и, будучи грубой, угрюмой скотиной, завидя старуху, внутренне преображался, становился ласков, весел.
Драгин все спрашивал ее, как она относится к Гитлеру: «Что, небось рады?», но хитрая старушка объявила себя антифашисткой и звала фюрера людоедом.
Ко всему была она совершенно никчемна, – не умела стирать, варить, а когда шла в магазин, то обязательно при покупке спичек продавец впопыхах срезал с ее карточки месячное довольствие сахара или мяса.
Современные дети совсем не походили на ее воспитанников того времени, которое она называла «мирным». Все изменилось, даже игры – девочки «мирного» времени играли в серсо, лакированными палочками со шнурком бросали резиновое диаболо, играли вялым раскрашенным мячом, который носили в белой сеточке – авоське. А нынешние играли в волейбол, плавали саженками, а зимой в лыжных штанах играли в хоккей, кричали и свистели.
Они знали больше Женни Генрих овны историй об алиментах, абортах, мошеннически приобретенных и прикрепленных рабочих карточках, о старших лейтенантах и подполковниках, привозивших с фронта жиры и консервы чужим женам.
Евгения Николаевна любила, когда старая немка вспоминала об ее детских годах, ее отце, о брате Дмитрии, которого Женни Генриховна особенно хорошо помнила, – он при ней болел коклюшем и дифтеритом.
Однажды Женни Генриховна сказала:
– Мне вспоминаются мои последние хозяева в семнадцатом году. Месье был товарищем министра финансов – он ходил по столовой и говорил: «Все погибло, имения жгут, фабрики остановились, валюта рухнула, сейфы ограблены». И вот, как теперь у вас, вся семья распалась. Месье, мадам и мадемуазель уехали в Швецию, мой воспитанник пошел добровольцем к генералу Корнилову, а мадам плакала: «Целые дни мы прощаемся, пришел конец».
Евгения Николаевна печально улыбнулась и ничего не ответила.
Однажды вечером явился участковый и вручил Женни Генриховне повестку. Старая немка надела шляпку с белым цветком, попросила Женечку покормить кота, – она отправилась в милицию, а оттуда на работу к мамаше зубного врача, обещала вернуться через день. Когда Евгения Николаевна пришла с работы, она застала в комнате разор, соседи ей сказали, что Женни Генриховну забрала милиция.
Евгения Николаевна пошла узнавать о ней. В милиции ей сказали, что старуха уезжает с эшелоном немцев на север.
Через день пришли участковый и управдом, забрали опечатанную корзину, полную старого тряпья, пожелтевших фотографий и пожелтевших писем.
Женя пошла в НКВД, чтобы узнать, как передать старушке теплый платок. Человек в окошке спросил Женю:
– А вы кто, немка?
– Нет, я русская.
– Идите домой. Не беспокойте людей справками.
– Я ведь о зимних вещах.
– Вам ясно? – спросил человек в окошечке таким тихим голосом, что Евгения Николаевна испугалась.
В этот же вечер она слышала разговор жильцов на кухне, – они говорили о ней.
Один голос сказал:
– Все же некрасиво она поступила,
Второй голос ответил:
– А по-моему, умница. Сперва одну ногу поставила, потом сообщила о старухе куда надо, выперла ее и теперь хозяйка комнаты.
Мужской голос сказал:
– Какая комната: комнатушка.
Четвертый голос сказал:
– Да, такая не пропадет, и с такой не пропадешь.
Печальной оказалась судьба кота. Он сидел сонный, подавленный на кухне в то время, как люди спорили, куда его девать.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу