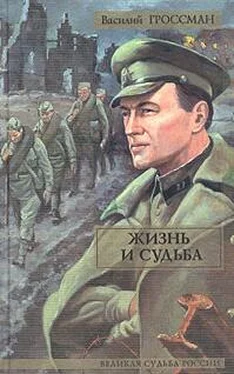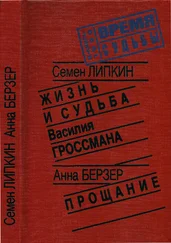Иногда Коломейцев говорил о литературе. Его слова совершенно не походили на ченцовские разговоры о нравоучительной, патриотической литературе. Ему нравился какой-то не то американский, не то английский писатель. Хотя Сережа никогда не читал этого писателя, а Коломейцев забыл его фамилию, но Сережа был уверен, что писатель этот хорошо пишет, – уж очень смачно, весело, с непристойными словами хвалил его Коломейцев.
– Мне что в нем нравится, – говорил Коломейцев, – не учит меня. Полезет мужик к бабе – и все, напился солдат – и все, умерла у старика старуха – описано точно. И смех, и жалко, и интересно, и все равно не знаешь, для чего люди живут.
С Коломейцевым дружил разведчик Вася Климов.
Как-то Климов и Шапошников пробирались в немецкое расположение, перелезли через железнодорожную насыпь, подползли к воронке от немецкой бомбы, где сидел расчет немецкого тяжелого пулемета и офицер-наблюдатель. Прильнув к краю воронки, они смотрели на немецкую жизнь. Один малый, пулеметчик, расстегнув китель и засунув за ворот рубахи красный клетчатый платок, брился. Сережа слышал, как скрипела под бритвой пыльная, жесткая щетина. Второй немец ел консервы из плоской баночки, и Сережа смотрел короткое, но емкое мгновение на его большое лицо, выражавшее сосредоточенное удовольствие. Офицер-наблюдатель заводил ручные часы. Сереже хотелось негромко, чтобы не испугать офицера, спросить: «Эй, слышите, сколько время?»
Климов выдернул чеку из ручной гранаты и уронил гранату в воронку. Когда пыль еще стояла в воздухе, Климов бросил вторую гранату и вслед за взрывом прыгнул в воронку. Немцы были мертвы так, словно и не жили минуту назад на свете. Климов, чихая от взрывных газов и пыли, взял все, что нужно было ему, – затвор от тяжелого пулемета, бинокль, снял с теплой офицерской руки часы, осторожно, чтобы не запачкаться в крови, вынул солдатские книжки из растерзанных мундиров пулеметчиков.
Он сдал взятые трофеи, рассказал о происшествии, попросил Сережу слить немного воды ему на руки, сел рядом с Коломейцевым, проговорил:
– Вот мы сейчас покурим.
В это время прибежал Перфильев, говоривший о себе: «Я мирный рязанский житель, рыболов-любитель».
– Слышь, ты, Климов, чего расселся, – закричал Перфильев, – тебя управдом ищет, надо снова пойти в немецкие дома.
– Сейчас, сейчас, – виноватым голосом сказал Климов и стал собирать свое хозяйство: автомат, брезентовую сумочку с гранатами. К вещам он прикасался бережно, казалось, что боится причинить им боль. Обращался он ко многим на «вы», никогда не ругался.
– Не баптист ли ты? – как-то спросил старик Поляков Климова, убившего сто десять человек.
Климов не был молчалив и особенно любил рассказывать о своем детстве. Отец его был рабочим на Путиловском заводе. Сам Климов, токарь-универсал, перед войной преподавал в заводском ремесленном училище. Сережу смешил рассказ Климова о том, как один ремесленник подавился шурупом, начал задыхаться, посинел, и Климов – до прибытия «скорой помощи» – вытащил из глотки ремесленника шуруп плоскогубцами.
Но однажды Сережа видел Климова, напившегося трофейным шнапсом, – он был ужасен, казалось, сам Греков оробел перед ним.
Самым неряшливым человеком в доме был лейтенант Батраков. Сапог Батраков не чистил, одна подошва у него похлопывала при ходьбе, – красноармейцы, не поворачивая голов, узнавали о приближении артиллерийского лейтенанта. Зато лейтенант десятки раз на день протирал замшевой тряпочкой свои очки, очки не соответствовали его зрению, и Батракову казалось, что пыль и дым от разрывов коптят ему стекла. Климов несколько раз приносил ему очки, снятые с убитых немцев. Но Батракову не везло – оправа была хороша, а стекла не подходили.
До войны Батраков преподавал математику в техникуме, отличался большой самоуверенностью, говорил о неучах-школьниках надменным голосом.
Он устроил Сереже экзамен по математике, и Сережа осрамился. Жильцы дома стали смеяться, грозились оставить Шапошникова на второй год.
Однажды, во время немецкого авиационного налета, когда обезумевшие молотобойцы били тяжелыми кувалдами по камню, земле, железу, Греков увидел Батракова, сидящего над обрывом лестничной клетки и читающего какую-то книжонку.
Греков сказал:
– Нет уж, ни хрена немцы не добьются. Ну что они с таким дураком сделают?
Все, что делали немцы, вызывало у жильцов дома не чувство ужаса, а снисходительно-насмешливое отношение. «Ох, и старается фриц», «Гляди, гляди, что хулиганы эти надумали…», «Ну и дурак, куда он бомбы кладет…»
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу