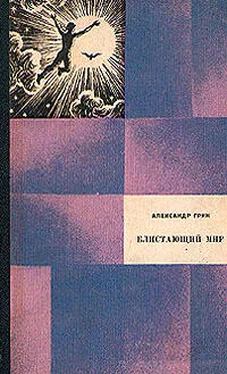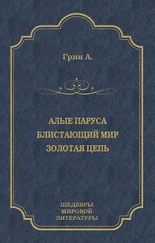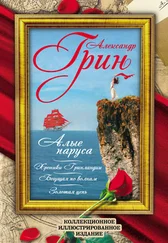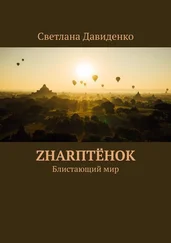И перед ним с ясностью напряженного зрения встал круг седобородых мужчин в мантиях и париках, которые, ухватив друг друга за языки, пытались крикнуть нечто решительное. Тогда Друд понял, что засыпает и гибнет, но этот печальный момент раненого сознания тотчас затонул в слабости; с усилием поднял он веки и, повинуясь роковой лени, снова закрыл их. В синей тьме поплыли лучистые пятна; они угасли, и лицо спящего побледнело.
Следствием всего этого было небольшое собрание праздных людей у подъезда гостиницы, откуда четыре санитара вынесли на носилках неподвижное тело, окутанное холстом. Лицо также оставалось закрытым. Управляющий, присутствуя при этой сцене, в ответ на соболезнующие вопросы сказал, что увозят больного, захворавшего неожиданно и тяжко; несчастный лишен сознания.
— Быть может, простой нервный припадок, — говорил он. — Я, впрочем, не доктор.
Тем временем больного уложили в карету, служители поместились внутри, а на козлы, к кучеру, сел бледный человек в очках, с серым лицом. Он что-то шепнул кучеру. Тот, взяв полную рысь, заторопил лошадей, и карета, свернув за угол, скользнула к тюрьме.
Вечером следующего дня Руна посетила министра, своего дядю по матери. Уже было одиннадцать, но Дауговет принял ее. Он выразил лишь удивление, что она, любимица, как бы нарочно выбрала такой час с целью сократить его удовольствие.
Она сказала: — Нет, ваше удовольствие, дядя, может быть, увеличится в связи с тем, что я привезла. — И она рассмеялась, а от смеха засмеялась вся ее красота, равная откровению.
Красота красит и тех, кто созерцает ее; все ее оттенки и светы вызовут похожие на них чувства, а все вместе взволнует и осчастливит. Но еще неотразимее действует совершенство, когда оно вооружено сознанием своей силы. Только удалясь, можно бороться с ним, но и тогда ему обеспечена часть победы — улыбка задумчивости.
Поэтому, имея в виду все средства для достижения цели, красавица-девушка оделась как на выезд — в блестящее открытое платье, напоминающее летний цветок. Из кружев выходили ее нежные, белые плечи; обнаженные руки дышали плавностью и чистотой очертания; лицо улыбалось. В ее тонких бровях была некая милая вольность или, скорей, нервность линии, что придавало взгляду своеобразное выражение капризной откровенности, как бы говоря постоянно и всем: — «Что делать, если я так невозможно, непростительно хороша? Примиритесь с этим, помните и простите».
— Дитя, — сказал министр, усаживая ее, — я старик и довожусь родным дядей, но должен сознаться, что за право смотреть на вас глазами, — хотя бы,
— Галля охотно и с отвращением вернул бы судьбе свой властный мундир. Жаль, у меня нет таких глаз.
— И я не верю слепым, поэтому заговорю о вашей безошибочной, прочной любви к книгам. Вы не изменили своей привязанности?
Дауговет оживился, что случалось с ним неизменно, если затрагивали этот вопрос.
— Да, да, — сказал он, — меня заботят теперь «Эпитафии» 1748 г., изданные в Мадриде под инициалами Г. Ж.; два экземпляра проданы Верфесту и Гроссману, я опоздал, хотя относительно одного экземпляра есть надежда: Верфест не прочь от переговоров. Однако, — он взглянул на книгу, которая была с Руной,
— не фея ли вы и не драгоценность ли Верфеста с тобой?
Министр переходил на ты в тех случаях, когда хотел дать этим понять, что свободно располагает временем.
— Сознаюсь, эту сверхъестественную надежду внушило мне твое торжественное, внутреннее освещение и загадочные слова о радости. Все же иногда жаль, что чудесное существует только в воображении.
— Нет, не «Эпитафии». — Руна мельком взглянула на свою книгу. — Как хотите, то, что мы с вами видели в цирке, есть чудо. Я не понимаю его.
Министр, прежде чем отвечать, помолчал, обдумывая слова, какими мог подчеркнуть свое нежелание говорить об удивительном случае и странной выходке Руны.
— Я не понимаю — что понимать? Кстати, ты испугалась, кажется, больше всех. Откровенно говоря, я жалею, что был в «Солейль». Мне неприятно вспоминать о сценах, которых я был свидетелем. Относительно самого факта, или, как ты выражаешься, — «чуда», я скажу: ухищрения цирковых чародеев не прельщают меня разбором их по существу, к тому же в моем возрасте это опасно. Я, чего доброго, раскрою на ночь Шехерезаду. Очаровательная свежесть старых книг подобна вину. Но что это? Ты несколько похудела, моя милая?
Она вспомнила, что пережила в эти два дня, одержимая желанием найти человека, запевшего под куполом цирка. В напиток, которым она пыталась утолить долгую жажду, этот старик, ее дядя, бросил яд. Поэтому лицемерие Дауговета возмутило ее; прикрыв гнев улыбкой рассеянности, Руна сказала: — Я похудела, но причина тому вы. Я еще более похудела бы, не будь у меня в руках этой книги. Министр поднял брови.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу