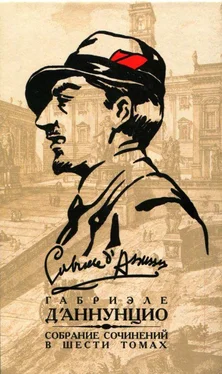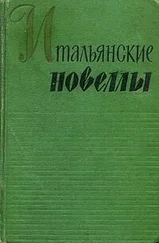По мере приближения сумерек ужас переполнял его душу, и он думал: «Куда мне деться? Как вернуться сегодня „туда“». Дом представлялся ему бесконечно далеким, недостижимым, все, кроме полного немедленного успокоения, казалось ему немыслимым в эту минуту.
VIII
Проснувшись после беспокойного сна на следующее утро, Джорджио сохранил лишь смутное впечатление о событиях вчерашнего дня: сумерки, спускающиеся над пустынной местностью, звук вечернего колокола, бесконечно гудящий в ушах, душевная мука, преследовавшая его по пятам вплоть до самого дома и усилившаяся при виде освещенных окон с мелькающими порою тенями, лихорадочное возбуждение, с которым он, забрасываемый вопросами сестры и матери, рассказывал все происшедшее, преувеличивая свое негодование и ярость взаимной схватки, безумная потребность говорить, примешивая к действительности хаотические нагромождения, порывы ненависти и нежности со стороны матери, прерывавшие его повествование о всех приемах этого негодяя и своем собственном энергичном протесте, последовавшая за этим внезапная потеря голоса, отчаяние, кровь, ударившая в голову, припадки неудержимой рвоты, леденящей холод во всех членах, наконец, ужасный кошмар, нарушивший его первый сон — все это смутно вспоминалось ему теперь и усиливало его физическую слабость, такую мучительную и вместе с тем такую желанную, как переход к полному небытию, к неподвижности трупа.
Сознание неизбежности смерти по-прежнему неотступно преследовало Джорджио, но ему была невыносима мысль, что для выполнения этого намерения необходимо выйти из своего инертного состояния, превозмочь чисто физическое отвращение к какому бы то ни было напряжению воли и совершить бесконечный ряд утомительных поступков. Где бы ему покончить с собою? Каким способом? Дома ли? Сегодня ли? Застрелиться или отравиться? Пока у Джорджио не находилось определенного ответа на все эти вопросы. Оцепенение во всех членах и горечь во рту внушали мысль о наркотике. И, не останавливаясь на том, как добыть в достаточном количестве это средство, он смутно рисовал себе картины его последствий. Нагромождаясь мало-помалу, картины эти обособлялись, выяснились и, наконец, слились в одну — чрезвычайно яркую. Его не столько интересовали подробности своей собственной медленной агонии, сколько последствия катастрофы и впечатление, произведенное ею на мать, сестру и брата. Джорджио старался вообразить все проявления их горя: слова, жесты, поступки. Интерес его все более и более сосредоточивался на оставшихся, не только кровных родственниках, но и дальних, на друзьях, на Ипполите, на этой далекой, далекой Ипполите, почти уже совсем чужой теперь…
— Джорджио?
То был голос матери, стучавшей к нему в дверь.
— Это ты, мама? Входи.
Мать вошла, приблизилась к его кровати, с нежностью склонилась над ним и, положив руку ему на лоб, спросила:
— Ну, как ты себя чувствуешь? Получше тебе?
— Немножко… только слабость… и горечь во рту, хотелось бы чего-нибудь выпить.
— Сейчас Камилла принесет тебе чашку молока. Не отворить ли пошире окно?
— Как знаешь, мама.
Голос его был слаб. Присутствие матери обостряло жалость к самому себе, герою предстоящей сцены смерти, по его мнению, уже окончательно решенной.
В сознании Джорджио реальный поступок матери, отворявшей окно, заслонился воображаемым, который последовал бы за ее ужасным открытием, и глаза его наполнились слезами от сострадания к себе и к несчастной женщине, которой он готовился нанести такой жестокий удар. Трагическая сцена всплывала перед его глазами с ясностью давно знакомой картины. Взглянув на него при свете, мать несколько испуганно окликает его, вот снова приближается к нему, дрожа от страха, дотрагивается до него, встряхивает его и, почувствовав, что тело остается неподвижно, холодно, безжизненно — без сознания падает на его труп. Быть может, замертво? Потрясение, несомненно, могло быть смертельным. Волнение Джорджио усилилось, минута казалась ему торжественной, как всякий конец, вид матери, ее поступки и слова принимали теперь характер чрезвычайной значительности, а он следил за нею внимательно, почти тревожно. Неожиданно выведенный из апатии, он чувствовал в эту минуту необычайный интерес ко всему окружающему, переживая хорошо знакомое ему странное состояние мгновенной смены представлений, возникавших в мозгу, между предыдущим и последующим моментом существовала такая же разница, как между сном и бодрствованием, явление, казавшееся ему аналогичным смене мрака и света при театральных эффектах.
Читать дальше