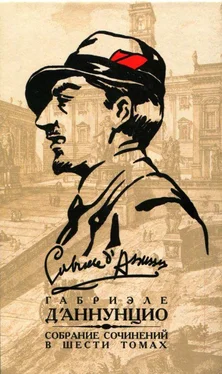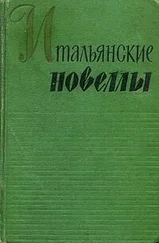— По крайней мере подождем, пока принесут чай. Потом мы перечтем их вместе. Хочешь, я затоплю камин?
— Нет, сегодня почти жарко.
Стоял светлый день с серебристыми отблесками в недвижном воздухе. Проходя через кисею занавесок, дневная бледность принимала мягкие тона. Свежие фиалки, сорванные на вилле Chesarini, наполняли всю комнату благоуханием. В дверь постучали.
— Вот и Панкрацио, — сказала Ипполита.
Добродушный слуга Панкрацио внес свой неизменный чай и свою неизменную улыбку. Он поставил поднос, возвестил, что на обед будет «нечто особенное», и вышел быстрой припрыгивающей походкой. Несмотря на свою лысину, он казался моложавым. Он был необыкновенно услужлив и обладал смеющимися глазами — длинными, узкими и немного раскосыми, как у японского божества.
Джорджио заметил:
— Панкрацио приятнее, чем его чай.
Действительно, чай не имел никакого аромата. Но сама сервировка придавала ему странную привлекательность. Сахарница и чашки невиданной вместимости и формы, чайник, изукрашенный пасторалью. На тарелочке с тонкими ломтиками лимона была написана посредине черными буквами рифмованная загадка.
Ипполита разлила чай. Чашки дымились, словно кадильницы. Потом она развязала пакет. Показались письма, тщательно разделенные на несколько маленьких связок.
— Сколько писем! — воскликнул Джорджио.
— Ну не так уж много. Всего 294. А ведь два года, друг мой, заключают в себе 730 дней.
Улыбнувшись, оба сели рядом, и чтение началось.
Необычайное волнение охватило Джорджио перед этими реликвиями его любви. Первые письма принесли разочарование. Повышенное, возбужденное состояние души, сквозившее в этих письмах, показалось ему непонятным. Лирический пафос некоторых фраз поразил его. Бурная сила юношеской страсти внушала ему почти страх по контрасту с мирным спокойствием настоящей жизни в этой скромной гостинице.
Одно из писем говорило: «Как стремилось к тебе мое сердце сегодня ночью. Мрачная тоска давила меня даже в краткие минуты сна — и я открывал глаза, чтоб избавиться от призраков, встающих из глубины моей души… Одна мысль преследует меня, мысль невыразимо мучительная, что ты можешь уйти от меня далеко. Никогда, нет никогда еще эта возможность не возбуждала во мне такого безумного страха и боли. В эти мгновения у меня явилась „уверенность“, уверенность определенная, твердая, ясная — я не в состоянии жить без тебя. Когда я думаю, что могу потерять тебя, все кругом меркнет, свет делается мне ненавистным, вселенная кажется бездонной могилой, — я ощущаю смерть». Другое письмо, написанное после отъезда Ипполиты гласило: «Делаю неимоверные усилия, чтобы держать перо. Во мне нет более энергии, нет воли. Такое отчаянье овладело мной, что от внешней жизни у меня сохранилось одно лишь сознательное убеждение — полной ненужности жизни. Хмурый день, — удушливый, тяжелый, точно день смертоубийства… Часы тянутся с неутомимой медленностью… Моя тоска растет с каждой минутой все более ужасная, все более мучительная… Мне кажется, что в душе моей стоячие воды, мертвые, отравленные. Страдание ли это душевное или телесное, не знаю. Я чувствую оцепенение и недвижимо изнемогаю под тяжестью, которая давит, но не убивает». И другое письмо: «Наконец сегодня я получил твой ответ в 4 часа, когда уже начинал отчаиваться. Я читал и перечитывал его тысячу раз, стараясь найти между строк „недосказанное“, то, чего ты не могла выразить — тайну твоей души, нечто более жизненное и более сладкое, чем все слова, начертанные на бездушном листке бумаги… Как я жажду тебя… Ищу следа руки твоей, твоего дыхания, твоего взгляда… Напрасно».
«Не знаю, чего бы я не дал, чтобы иметь хотя бы призрак твоего присутствия. Поцелуй цветок и пришли мне его, начерти мне кольцо, к которому длительно прижмись губами — сделай так, чтобы я, хотя в мечтах, мог владеть твоей лаской, посланной мне издалека… Издалека! Сколько времени уже я не целовал тебя, не держал в своих объятиях, не видел твоего побледневшего от страсти лица? Год один? Или век?»
«Куда скрылась ты? В какие земли? За какие моря?»
«Часы провожу я с застывшей душою, — все думаю».
«Это состояние словно могила, словно склеп. Иногда я прямо „вижу“ себя вытянувшимся в гробу, я с равнодушной ясностью мысли „созерцаю“ себя мертвым, неподвижным, ухожу в глубь своей души».
Так кричали и стонали письма любви на столе, покрытом домашней скатертью, рядом с деревенскими чашками, наполненными дымящимся чаем.
Читать дальше