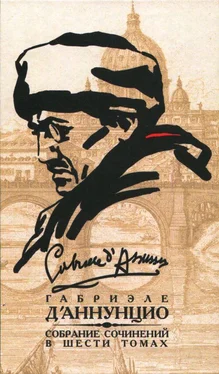— Вы устали, — сказал я моей спутнице, стараясь привлечь ее к скале, которая могла заслонить от нее вид на пропасти и вернуть ей сознание устойчивости. — Вы устали, Анатолиа, эта усталость вам непривычна, и этот вид, быть может, несколько пугает вас… Прислонитесь к скале и закройте на несколько минут глаза. Я останусь возле вас. Вот моя рука. Я сумею свести вас вниз. Закройте же глаза…
Она снова попыталась улыбнуться мне.
— Нет, нет, Клавдио, — сказала она, — не беспокойтесь.
Потом, помолчав, она произнесла каким-то таинственным, изменившимся голосом.
— Это не то… Если я закрою глаза, быть может, я снова увижу…
Мое сердце трепетало от какого-то неведомого волнения. Лицо Анатолии снова приняло хотя и грустное, но спокойное выражение, и во всем ее существе выражалась твердая воля подавить свое страдание, и все-таки в силу каких-то неясных сопоставлений мне вспомнились внезапная тревога Антонелло, его беспокойство, служившее ему неизменным предупреждением, предвидения, мелькавшие в его бледных глазах.
— Вы поняли? — спросил я, беря ее за руку, стоя прислонившись к скале рядом с ней. — Вы поняли, что одну вас сердце мое избрало подругой в тот вечер, когда ваш отец поцеловал мою голову в знак согласия? Вы встали и вышли из комнаты, легкая, как дуновение, и не знаю почему, мне казалось, что ваше лицо орошено слезами… Скажите, Анатолиа, скажите мне, вы плакали, вам дорога была моя мечта?
Она не отвечала, но, держа ее за руку, я ощущал, как чистейшая кровь ее сердца притекала к концам ее пальцев.
— В тот вечер, — продолжал я, желая опьянить ее надеждой, — возвращаясь в Ребурсу, я увидел, как над одной из моих старых башен заблистала звезда; и так велика была уверенность, влитая в мою душу вашим присутствием, что я принял эту случайность за Божественное указание. С тех пор в ее сиянии я вижу два образа… Вы знаете, чей другой. Я слышу еще первые слова, с которыми вы обратились ко мне при встрече, слова незабвенные: «Ее душа великой доброты». И весь день образ, вызванный вами, не отходил от нас, как бы указывая мне свой выбор. И в недалеком будущем она сама проводит вас до порога жилища, некогда озаренного ее улыбкой, а теперь пустынного… Взгляните туда!
Она взглянула на далекие башни Ребурсы в глубокой долине, на которую нависшие облака отбрасывали широкие круги тени, потом она медленно перевела свой взгляд на Тридженто, и на лице ее отразилась мучительная душевная борьба. Она покачала головой и отняла свою руку от моей.
— Счастье не суждено мне, — произнесла она печальным, но твердым голосом, устремив свои взоры на сад своей скорби, на обиталище своей муки. — Я, как и Массимилла, посвятила себя, и мой обет ненарушим, как и ее. И это не только добровольный поступок, Клавдио. Я сознаю теперь, что эта жертва необходима, и я не могу отказаться от нее. Сейчас, когда вы предложили мне подняться с вами на вершину, вы слышали мой ответ. Вы видели, как легко казалось мне сначала подниматься вместе с вами, опираясь на вашу руку. Но затем… я не могла идти дальше, мы не достигли вершины. Видите: я стою, прикованная к скале. Вы предлагаете мне дар, всю цену которого вы не сознаете так хорошо, как сознаю ее я, и вот я подавлена тяжкой печалью, гнета которой я боюсь не выдержать, я, никогда не боявшаяся страданий!
Я не смел ни прервать ее, ни прикоснуться к ней. Мной овладел какой-то религиозный трепет. Я был охвачен волнением, еще более сильным, чем в тот торжественный вечер, и, даже не оборачиваясь к ней, я ощущал рядом с собой трепет чего-то бесконечно великого и таинственного, подобно изображению божеств, скрытых под покрывалами в святилище храмов. Ее голос звучал почти возле моего уха, и в то же время он доносился до меня из бесконечной дали. Она произносила простые слова, но они зарождались на вершинах жизни, достигая которых человеческая душа преображается в идеальную Красоту.
— Взгляните туда! Взгляните на дом, где с первого же дня мы встретили вас, как брата, где отец наш приветствовал в вас сына, где вы нашли нетронутой память о ваших дорогих умерших. Посмотрите, как он кажется далеко. А между тем я чувствую себя связанной с ним тысячью невидимых нитей крепче всяких цепей. Мне кажется, что даже отсюда жизнь моя всецело слита с проблесками жизни, слабо тлеющей там… Ах, быть может, вы не понимаете этого! Но подумайте, Клавдио, о жестокостях судьбы, грозящих нам, подумайте о несчастной безумной матери, об измученном и подавленном горем старце, о брате — об этой жертве, непрестанно трепещущей на краю безумия, и о другом, которому грозит та же кара, и об ужасе заражения, об одиночестве, тоске… Ах, нет, вы не можете понять! С первого же дня я боялась огорчить вас, я старалась оградить вас от жесточайших печалей, скрыть от вас сильнейшие скорби, я старалась всегда стоять между вами и нашим страданием… Редко, быть может, даже ни разу, вы не дышали истинной печалью нашего дома. Мы ходили с вами по саду, среди цветов, которые мы снова полюбили для вас, и в этом заброшенном саду вам удалось воскресить некоторые умершие мечты… Но подумайте о наших тайных муках! Вы не можете этого видеть, но я отсюда вижу все, что происходит там, позади стен, словно они из стекла, и я стою, прислонившись к ним лицом. Можно подумать, что жизнь за ними замерла. Отец и сын сидят, запершись в одной комнате; они не решаются выйти, не решаются заговорить, прислушиваются к малейшему шуму, увеличивая страдания друг друга, и оба бессильно ждут моего возвращения, насторожившись, с надеждой различить шум моих шагов и мой голос. А она вне себя, она ищет меня по всем коридорам, по всем комнатам, громко зовет меня, останавливается перед запертой дверью, прислушивается или стучит, и две несчастные души слышат ее громкое дыхание, вздрагивают при каждом ударе и беспомощно смотрят друг на друга — с каким мучением, о Боже!
Читать дальше