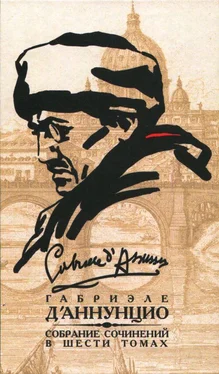В диалоге последнего вечера меня менее поражает то место, где Критон по просьбе тюремщика, приготовлявшего отраву, прерывает речь обреченного на смерть, советуя ему, не горячиться, если он хочет, чтобы яд подействовал быстрее, а бесстрашный мудрец с улыбкой продолжает свое поучение; и я менее очарован музыкальным образом прорицателей лебедей и их мелодичной радостью; и не так сильно дивлюсь я великим последним мгновениям, когда этот человек краткими жестами и краткими словами так отчетливо заканчивает свою земную жизнь и, подобно художнику, дающему последний штрих своему произведению, смотрит удовлетворенный на свое собственное изображение, чудо искусства, которое останется бессмертным на земле. Сильнее всего я был восхищен тем неожиданным молчанием, последовавшим за сомнениями, какие высказали Кебет и Симлий в уверенности, выраженной их красноречивым учителем.
Это молчание было глубоко; в него, как в бездну, погрузились все внезапно ослепшие души, и для них нежданно погас луч света, направленный на тайну тем, кто был готов вступить в нее.
Учитель угадал печаль внезапного сомнения своих последователей, и крылья его мысли понемногу поникли. Действительность предстала его ощущениям и еще немного удержала его в области конечного и познаваемого. Он почувствовал бег времени, течение жизни. И, когда глаза его остановились на Курчавых волосах красавца Федона, быть может, его слух воспринял отголоски шума великого города, быть может, его ноздри вдохнули благоухание нового лета, уже близкого.
Так как он сидел на ложе, а Федон сидел около него на низкой скамейке, он положил руку на голову своего ученика, гладил ему волосы, окаймлял ими чело, как он имел обыкновение играть с этими пышными юношескими кудрями. Он еще молчал — так должно было быть сильно и исполнено наслаждением его волнение. Прикасаясь к живой и тленной красоте, он в последний раз общался с земною жизнью, где он окончил свой жизненный путь и осуществил свой идеал добродетели; и, может быть, он чувствовал, что ничто не существовало за пределами этого, что его законченное существование ограничивалось самим собою, что переход в вечность был только воображением, подобно кольцу вокруг планеты, происшедшим от необычайного совершенства его личности.
Никогда волосы юноши Элиды не имели для него такой цены. Он любовался ими в последний раз, потому что должен был умереть; и он знал также, что на следующий день они будут обрезаны в знак траура. Наконец, он произнес — и ученики никогда не слыхали подобного выражение в его голосе — он произнес: «Завтра, о, Федон, ты обрежешь эти чудные волосы». И юноша: «Разумеется, о, Сократ!»
Это чувство, впервые пробудившееся и зазвучавшее во мне при чтении этого эпизода в диалогах Платона, стало впоследствии путем аналогий таким сложным и таким обычным для меня, что я постановил его явной или сокровенной музыкальной темой созвучий, к которым я стремился.
Итак, Эллин научил меня думать о смерти в духе, соответствующем моей природе, дабы я находил большую цену и большое значение во всем близком мне. И он научил меня отыскивать и открывать в моей природе действительные достоинства, как и действительные недостатки, чтобы расположить те и другие по намеченному плану, терпеливой работой придать последним достойный вид и воспитать первые до высшего совершенствования. И он научил меня откинуть все, что было бы в несогласии с моей основной мыслью, все, что могло бы исказить черты, созданные моим воображением, замедлить или прервать ритмическое развитие моей мысли. И он научил меня верным инстинктом познавать, какие души подчинить благодеянию и власти и от каких получить необычайное откровение. И наконец, он внушил мне свою веру в демоническое начало, которое являлось таинственным обозначением стиля, ненарушаемого никем и даже им самим в своей собственной личности.
Проникшись этим учением и пользуясь одиночеством, я принялся за дело, надеясь, что мне удастся ясными и сильными штрихами очертить мою собственную личность, в созидании которой участвовало столько отдаленных причин, влиявших с незапамятных времен в бесконечной цепи поколений. Родовая доблесть, называемая на родине Сократа евгеникой , открывалась мне тем живее, чем суровее становилась строгость моей дисциплины; и моя гордость росла вместе с чувством удовлетворения, потому что я думал, что в этом испытании огнем многие другие души рано или поздно выказали бы низменность своей души.
Читать дальше