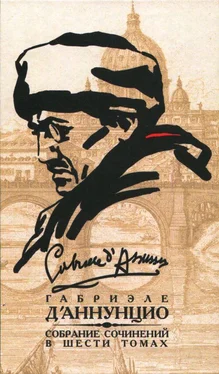Как я говорила о соловье и жаворонке! Тысячи раз приходилось мне слышать их в деревне, я свободно различала трели птичек, живущих в лесах, лугах или облаках, все они еще звучали в моих ушах, дышащие жизнью природы. Все слова мои были проникнуты огнем вдохновения. Каждый нерв участвовал в общей гармонии. Ах! Эта грация, грация непроизвольных движений! Всякий раз, когда мне удается быть на высоте творчества, у меня появляется это ощущение. Я чувствовала себя Джульеттой. „День! День!“ — кричала я в ужасе. Ветер играл моими волосами. Я замечала необычайную тишину в аудитории, куда несся мой вопль. Казалось, толпа исчезла под землей: она безмолвствовала на ступенях амфитеатра, теперь погруженного в полный мрак. Верхушки стен еще светились. Я говорила про ужас дня, а на лице своем чувствовала „маску ночи“. Ромео уже спустился в склеп. Смерть уже витала над нами, окутывая нас мраком. Помните? „Ты мне кажешься мертвым, ты появляешься, как призрак, из глубины склепа. Ты слишком бледен, если глаза мои не обманывают меня…“
Я вся леденела, произнося эти слова. Мой взгляд блуждал по верхушкам стен, ища света: свет потух.
Народ волновался, требовал сцены смерти, он не желал слушать ни мать, ни кормилицу, ни монаха.
Трепет толпы сообщался мне, и сердце мое тревожно билось. Трагедия развивалась усиленным темпом. У меня осталось в памяти как жемчуг бледное небо и, подобный шуму моря, рокот толпы, затихавший с моим появлением, помню смолистый запах факелов и роз, блекнущих на моем пылающем теле, далекий звон колоколов, посредников между землей и небом, и это небо, угасающее вместе с моей жизнью, и звезду, первую ночную звезду, вспыхнувшую перед моим взором, омытым слезами… Когда я снова упала на тело Ромео, толпа так заревела среди мрака, что на меня напал ужас. Кто-то приподнял меня и повлек к этой толпе. К моему лицу, залитому слезами, приблизили факел, он трещал, издавая запах смолы, становясь то черным, то багровым от дыма и пламени. Этот факел и звезду я не забуду никогда. Сама я, несомненно, была похожа на мертвую… Так вот как, Стелио, в один майский вечер перед населением Вероны ожила Джульетта.
Она снова умолкла и закрыла глаза, как бы в забытье, а ее скорбные губы продолжали улыбаться другу.
— А потом? Потом появилась потребность бежать, бежать бог знает куда, только двигаться вперед, разрезая грудью воздух… Мать молча следовала за мною. Мы прошли один мост по берегу Адижа, потом прошли еще мост и очутились на какой-то маленькой улице, оказалось, мы заблудились в переулках, наконец, мы вышли на площадь с церковью, быстро-быстро мы шли все далее. От времени до времени мать спрашивала: „Куда же мы идем!“ Я искала монастырь капуцинов, где была могила Джульетты, к моему великому огорчению, не попавшая за чудную решетку с роскошными памятниками, но я не хотела, не могла об этом говорить. Открыть рот и выговорить слово казалось мне так же невозможно, как сорвать звезду с неба. Голос мой пропал с последним словом умирающей. Губы сковало безмолвие смерти. Мне казалось, я умираю, охваченная то льдом, то огнем, и — как бы это выразить? — казалось, как будто этот огонь пронизывал мои кости, а все остальное тело застывало от холода. „Куда мы идем?“ — снова спросила меня моя неутомимая спутница. Ах! На это я могла бы ответить только последними словами Джульетты. Мы снова очутились на берегу Адижа, у входа на мост. Должно быть, я бросилась к перилам моста, потому что сейчас же почувствовала, как мать обхватила меня обеими руками, в ее объятиях я разразилась рыданиями. „Бросимся так в воду“, — хотелось мне сказать, но я не могла. Река уносила в своих волнах эту ночь, эти звезды. И я чувствовала, что желание исчезнуть было не у одной меня… Ах! Святая женщина!
Она страшно побледнела: вся душа ее прониклась воспоминанием этих объятий, поцелуев, слез и ласки — всей глубины пережитого тогда мгновения.
Она взглянула на своего друга, внезапная волна крови прилила к ее щекам, распространилась по всему лицу, как бы под наплывом целомудрия.
— Зачем я вам все это рассказываю? Зачем? Вот, говоришь, говоришь, а зачем — не знаешь.
В смущении она опустила глаза. При воспоминании об этом таинственном ужасе — предвестнике зрелости — об этой страстной материнской любви, инстинкт женщины снова пробуждался в ней, наряду с сознанием невозможности материнства.
Этот инстинкт не мирился с героическим аскетизмом и смущал сознание, готовое поддаться иллюзии. Из недр ее существа поднималось смутное стремление, в котором она не смела отдать себе отчета. Возможность небесного милосердия засветилась над печальной необходимостью отречения. Сердце ее забилось, но она не решалась заглянуть в лицо неведомому, боясь прочесть в нем приговор. Она боялась мгновенно рассеять это ощущение, так похожее на надежду, рожденное ее плотью и духом, под влиянием какого-то нового феномена. Ей было больно от дневного света, озарявшего местность, по которой они шли, от звука собственных шагов, от присутствия Стелио. Ей хотелось дремотной неги утреннего сна, когда тайная сила желания вызывает смену счастливых видений. Ей хотелось тишины и спокойствия уединенной комнаты и мрака тяжелых занавесей алькова. Внезапно в глубине ее скорбного сердца, как бы с целью удержать мимолетный призрак, властно прозвучали слова, чуть-чуть было не сорвавшиеся с ее уст: „Иметь сына от тебя!“
Читать дальше