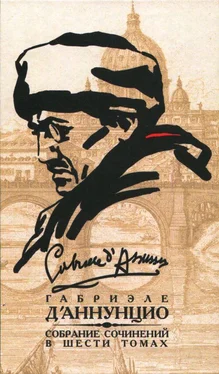— Италия! — вздохнула добрая старая фея. — Италия — цвет мира.
— Вот на этот-то берег я и выпускал зайца. Я научил человека спускать собак в нужный момент и следовал за ними на лошади. Конечно, Магог необыкновенной резвости, но я никогда не видел такой поимистой и проворной собаки, как Гог.
— Он из ньюпаркетских псарен, — заметила с гордостью леди Мирта.
— Однажды я возвращался домой берегом моря. Охота была короткая. Гог настиг зайца после 2 или 3 миль. Я ехал легким галопом мимо спокойных вод, Гог галопировал в голову с моей лошадью Камбизом, время от времени он кидался с лаем на дичь, привешенную к луке седла. Внезапно моя лошадь испугалась падали, валявшейся на песке, сделала скачок и задела подковой собаку, которая взвизгнула и подняла левую переднюю ногу, оказавшуюся сломанной в лодыжке. Я с трудом остановил напуганную лошадь, подавшись назад. Но как только я снова пустился в путь, Камбиз заметил снова падаль — он сделал крутой поворот и понес. Тогда началась бешеная скачка по дюнам. Несколькими минутами позднее, с непередаваемым волнением я услышал сзади прерывистое дыхание Гога. Он следовал за мной — можете себе представить! Истекая кровью, забыв боль, он догнал меня со своей сломанной лапой, он сопровождал меня, он забежал вперед. Мои глаза встретили его кроткий взгляд. И в то время, как я старался справиться с обезумевшей лошадью, мое сердце разрывалось каждый раз, когда несчастная израненная собака касалась земли. Ах! Я обожал в эти минуты Гога. Считаете ли вы меня способным заплакать?
— Да, — ответила леди Мирта, — вы способны даже на это.
— Ну, так вот, пока моя сестра София промывала рану своими прекрасными руками, проливая слезы, мне кажется, я тоже…
Фоскарина подошла к ним, держа Донавана за ошейник. Она снова побледнела и как бы съежилась, точно в нее проник вечерний холод. Тень бронзового купола на траве и на решетке становилась длиннее. Фиолетовая роса с последними лучами солнечных блесток охватывала стволы деревьев и пряталась в ветвях, дрожавших от непрерывного дуновения ветра. И в ушах настойчиво звучало теперь чириканье, наполнявшее верхушку ели, усеянную пустыми шишками.
«Да, мы оба принадлежим вам навеки! — казалось, хотела сказать женщина о себе и о животном, прижимавшемся к ее ногам и дрожавшем от вечерней свежести. — Мы принадлежим вам навеки! Мы созданы, чтобы служить».
— Ничто на свете не потрясает меня так, как вид крови, — продолжал Стелио, взволнованный воспоминанием трогательных минут.
Послышался длительный свисток поезда, проходившего по мосту через лагуну. Порыв ветра разметал лепестки большой белой розы, и от нее осталась только сердцевина на стебле. Дрожащие от холода собаки собрались в кучу, прижались друг к другу, под их тонкой кожей вздрагивали ребра, и на удлиненных змеевидных мордах светились печальные глаза.
— Я вам не рассказывала, Стелио, каким образом сумела умереть одна женщина из знатного рода Франции, именно во время одной охоты, на которой я присутствовала? — спросила леди Мирта.
Это трагическое и грустное воспоминание пробудилось в ней при взгляде на побледневшее лицо Фоскарины.
— Нет, не рассказывали. Кто эта женщина?
— Жанна д’Эльбёф. Не то вследствие неосторожности, не то вследствие неопытности своей или своего спутника она была ранена — так никогда и не узнали кем — одновременно с зайцем, проскакавшим между ног ее лошади.
Увидели, что она тяжело упала на землю. Мы все сбежались и нашли ее лежащей на траве в крови, рядом с издыхающим зайцем. Когда мы стояли там безмолвные и потрясенные, окаменев от ужаса настолько, что никто не мог заговорить или двинуться с места — несчастная женщина приподняла руку, указала на раненое, мучающееся животное и (я никогда не забуду ее голоса) сказала: «Прикончите его, убейте его, друзья мои… Это такая невыносимая боль». И затем она скончалась.
Захватывающей душу нежностью дышит Ноябрь, улыбаясь, точно больной, поверивший в возможность выздоровления, испытывающий непривычное успокоение и не сознающий близости агонии.
— Да что с вами сегодня, Фоска? Что случилось? Почему вы так молчаливы со своим другом? Скажите!
Стелио, зайдя случайно в Сан-Марко, застал ее прислонившейся к двери часовни, где хранятся метрические книги. Она стояла там одна, неподвижная, с пылающим и мрачным лицом, с глазами, полными ужаса, устремленными на мозаичные изображения грешников, горящих в огне. За дверью репетировал хор, пение то прерывалось, то снова возобновлялось все в том же темпе.
Читать дальше