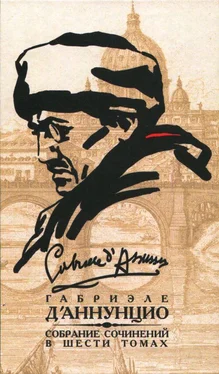Во власти неведомой силы, объятая животным ужасом, она дрожала всем своим существом. Как при вспышке молнии он снова увидел ее поверженной, изнемогающей, похожей на менаду после танца. Еще раз они взглянули в глаза друг другу, но она не могла вынести этого взгляда, светившегося диким сладострастием. Ощущение было мучительно.
Они расстались.
Она направилась в сторону, где раздавались голоса поэтов, певцов ее духовного могущества.
Погибла! Погибла! Теперь она погибла!
Она еще жила, сраженная, униженная и оскорбленная, как будто ее безжалостно растоптали ногами, она жила еще — и заря занималась, и день вставал, и свежие волны прилива омывали Прекрасный Город, и Донателла покоилась на своем непорочном ложе. В далекой бесконечности исчезал час — такой близкий, однако, когда она ждала возлюбленного у решетки, услышала шаги его в гробовом молчании пустынной набережной, почувствовала, что колени ее подогнулись и в висках страшно застучало… Как далек он был, этот час! И тем не менее всем своим телом, сквозь дрожь, оставшуюся от лихорадочного безумия этой ночи, она переживала все фазы ожидания: холод железа, к которому прислонилась она лбом, удушливый, пряный запах, исходящий от мокрой травы, и теплые языки борзых собак леди Мирты, бесшумно сбежавшихся лизать ее руки.
— Прощай! Прощай!
Погибла! Он поднялся с ее ложа, как с ложа куртизанки, чуждый, почти нетерпеливый, привлекаемый свежестью рассвета, свободой утра!
— Прощай!
Из своего окна она видела Стелио, полной грудью вдыхавшего живительный воздух, потом, среди глубокой тишины раздался его звонкий и уверенный голос:
— Зорзи!
Мужчина спал в неподвижной гондоле, и сон человека походил на сон управляемой им лодки. Едва Стелио коснулся его ногой, он вскочил, бросился на корму и схватился за весла. Человек и гондола одновременно ожили, словно они составляли единое целое, и приготовились скользить по воде.
— Servo suo, paron, — сказал Зорзи, улыбаясь и смотря на светлевшее небо. — La se senta, che adesso me toca vogar mi [18] К вашим услугам, синьор. Садитесь, теперь моя очередь грести. (Венецианский диалект.)
.
Напротив дворца открылась дверь мастерской. Это была мастерская каменотеса, где приготовляли ступени из камня, добываемого в Valdi Sole.
«Восхождение», — подумал Стелио, и его суеверное сердце радостно затрепетало от счастливого предзнаменования. Слова на вывеске каменотеса показались ему знаменательными. Разве только что не видел он уже в гербе Гардениго изображения лестницы — символа его собственного возвышения. «Выше, все выше». Внутренняя радость разрасталась.
А Пердита? Ариадна? Снова они явились ему на вершине мраморной лестницы, при свете дымящихся факелов сплетенные между собой так тесно, что они сливались в одной общей белизне — эти две сирены, вырвавшиеся из толпы, как из объятий чудовища.
А Танагра? Сиракузянка с продолговатыми глазами овечки предстала перед ним спящая, прильнувшая к матери-Земле, точно лепная фигура барельефа. «Дионисова троица!» Он представлял их себе бесстрастными, недоступными злу, как создания искусства. Оболочка его души отражала образы чудные и мимолетные, подобно морю, отражающему облака.
Острое чувство обновления пронизывало все его существо точно лучи света. Жар ночной лихорадки совершенно рассеивался под дуновением ветерка, тяжесть исчезла. В нем происходило то же, что совершалось вокруг — он возрождался вместе с утром.
— Adesso no serve piú che ti fazzi chiaro [19] Теперь уже не надо тебе светить.
,— лукаво прошептал гребец, погасив фонарь гондолы.
— В Большой канал через Сан-Джиованни-Деколлато! — садясь, крикнул ему Стелио.
И в ту минуту, как узорчатый нос гондолы поворачивал к Rio-di-San-Giacomo-dall-Orio, он оглянулся на дворец, казавшийся в тени свинцовым. Единственное освещенное окно померкло, точно ослепший внезапно глаз.
— Прощай! Прощай!
Его сердце вдруг забилось, страсть снова заклокотала в его жилах. Образы страдания и смерти заслонили все остальные. Женщина, утратившая молодость, осталась там почти в агонии, непорочная девственница готовилась взойти на ложе своего падения. В опьянении собственной силой он создал себе иллюзию, что эти две жизни послужат для него источником наслаждения. Его сердце успокоилось. Тревога исчезала перед простой радостью утра. Бледную Пердиту скрыла листва свесившихся за ограду деревьев, где уже чирикали проснувшиеся воробьи. В волнах канала потонули манящие уста певицы. В нем совершилось тоже, что и в окружающей природе. Арки и эхо мостов, плавающие водоросли, воркующие голуби дышали его жизнью, его надеждами, его желаниями.
Читать дальше