— Не заслуживаю никакой благодарности, — отвечал Печерин, крепко пожав протянутую ему руку, — но скажу искренне, что рад с вами встретиться! Назначьте час, в который я мог бы застать вас дома.
— Свободны ли вы теперь? Мы могли бы вместе дойти до Hôtel du Rhin, и если вам досужно, то и зайти ко мне.
— Охотно, иду с вами.
— Благодарю вас за все, что вы делали и сделали в Черном Боре. Знаю все. Еще на днях я получил письмо от доктора Францена, который там был после вас. Благодарю не только за себя, но и за ту, чью могилу и память вы так почтили…
Вальдбах на минуту смолк, а потом пониженным голосом продолжал:
— Я вдвое старше вас, Борис Алексеевич, и считаю возможным говорить с вами прямо, без фраз, без всяких précautions oratoires, потому что в вас уверен. Есть признаки, которые никогда не обманывают. По вашим поступкам я уверен в том, что вас знаю и что вы меня поймете. Без впечатлительности прочной, а не минутной, то есть без теплого сердца, не поступают так, как вы. Повторяю — я знаю все, что могли о вас знать в Черном Боре; знаю, что вы никому не передали сказанного вам Кондратием; знаю также, что вы несколько раз обо мне спрашивали, но никаких сведений не могли получить.
— Весьма естественно, что я о вас осведомлялся, — сказал Печерин, — и справедливо то, что положительно ничего узнать не мог.
На пути к Hôtel du Rhin Вальдбах рассказывал Печерину, что на первых порах по выезде из России жизнь была для него таким бременем, что хотя у него и были родные в Германии, но он беспрерывно менял место жительства. Когда вспыхнула восточная война пятидесятых годов, он отправился прямо в кавказскую армию, поступил на службу, был тяжело ранен при штурме Карса, в одно время с генералом Кауфманом, пролежал несколько месяцев в госпиталях, потом оставил службу, снова уехал за границу; после того он только один раз был в России на короткое время и тогда именно посетил, поздно вечером, Черный Бор, как о том Кондратий говорил Печерину.
— Мой след мог легко простыть там, — продолжал Вальдбах. — Я полуиностранец. Мой отец служил в России, и я в ней вырос и воспитан. У меня есть однофамильцы в остзейском крае; но я почти никого из них не знал. Мы — из Вестфалии. Мой старший брат неожиданно наследовал майорат близ ганноверской границы, и после его смерти я долго был нужен его детям и моей невестке. Вы, может быть, спросите, для чего я преднамеренно окружил себя какой-то таинственностью и не давал о себе вести. Откровенно отвечу, что это сделалось без всякого намерения, так сказать, само собой. Сначала, пока Черный Бор был в руках убийцы, эта местность была мне нестерпима. Впоследствии, когда имение перешло к Северцову, я с ним, как вам известно, сносился; но по прошествии стольких лет мне не хотелось будить заснувшее прошлое, дать повод к толкам обо мне, и не обо мне одном. Время шло; обстоятельства не изменялись…
— А теперь? — спросил Печерин.
— Теперь… Вы видите, что я вас искал…
Между тем собеседники вошли в комнаты Вальдбаха в Hôtel du Rhin.
— Пройдите в мою спальню, Борис Алексеевич, — сказал Вальдбах, отворяя туда дверь. — Вы там вспомните о Черном Боре.
У изголовья постели Печерин увидел акварельный портрет покойной жены Вальдбаха, над ним — складень с изображением Богородицы, а под ним набросок карандашом, представлявший вид черноборского дома со стороны часовни. Долго Печерин не мог оторвать взгляда от портрета. Краски настолько удержали свои оттенки под защитой стекла, что цельность впечатления не нарушилась. Лицо казалось только покрытым легкой дымчатой пеленой, и сохранившееся кроткое, глубоко задумчивое выражение глаз мгновенно привело на память Печерину предсмертную просьбу покойницы — не мстить! Всматриваясь в портрет, Печерин невольно вспомнил и о том, что Вере Сербиной приписывали сходство с покойной Марьей Михайловной. Он сам не находил такого сходства в чертах лица, но выражение глаз на портрете действительно напоминало ему прощальный взгляд Веры у белорецкой церкви.
Возвратясь в кабинет Вальдбаха, Печерин ничего не сказал ему о портрете и, прямо заговорив о складне, заметил, что он теперь не удивляется встрече с бароном в православной церкви.
— Когда вы меня ближе узнаете, Борис Алексеевич, — отвечал Вальдбах — то увидите, что я — гражданин христианского мира и смело говорю, что причисляю себя к трем церквам. Я лютеранин по рождению и воспитанию, но отчасти и православный, и римско-католик. Когда-нибудь поговорим об этом, а теперь скажу только, что месяцы страданий в госпиталях, страданий и нравственных, и физических, не прошли для меня даром. Они, в известном смысле, сломили меня, но не надломили. Они если и не довершили, то подготовили постановку моего взгляда на жизнь, а взгляд на жизнь не установляется без определенного взгляда на область верований.
Читать дальше
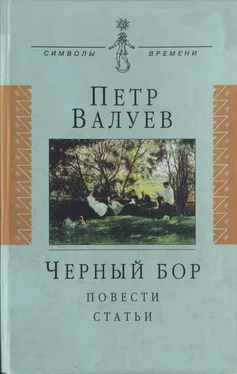








![Михаил Давидов - Тайны гибели российских поэтов - Пушкин, Лермонтов, Маяковский [Документальные повести, статьи, исследования]](/books/401767/mihail-davidov-tajny-gibeli-rossijskih-poetov-push-thumb.webp)


