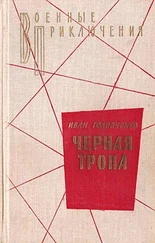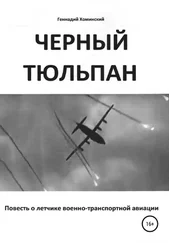Все, кажется, сказано и исчислено! Но все это не одухотворено, не связано высшей идеей — не согрето светом церковно-христианского настроения… Все перечислено — не забыты и меры об улучшении скота и корнеплодов — но не указано, что администрация должна заботиться об улучшении души человеческой, об улучшении нравов, о созидании корней жизни: веры и благочестия. Таким образом, христианизация отставлена от первой ступени государственной жизни.
Устранивши Церковь и религиозный интерес из общественной и государственной среды, Валуев, в противоречие с самим собой, в противоречие высказанным в записке 1855 г. «Думы русского» [139], не вошел в серьезное рассмотрение быта и жизни духовенства, не способствовал своим влиянием улучшению экономической независимости духовенства. Интересы духовенства как сословия были чужды ему… Это второе следствие индивидуалистического понимания Валуевым религии. Наконец, третье следствие: устранивши социологический момент в религиозном процессе, Валуев просмотрел подлинное лицо того боевого социализма, который во дни его жизни вышел из подземелья и глубоко потряс русское общество кровавой катастрофой 1 марта… Чем воодушевлялись, хотя и ложно, чем оправдывали себя, хотя казуистически, некоторые из злополучных виновников кровавого дела?! Увы! Они замаскировались христианскими словами!
В эти-то годы на русской почве зародилась та религия социализма, которая впоследствии, в 90-е годы, вновь возродилась в форме марксизма по чужому образцу… Что же ответил Валуев этим фанатически-исступленным чаяниям русских социалистов? Валуев ответил уже известными словами: «Христианские начала… заключают в себе единственный на земле осуществимый идеал равенства…; но они не вводятся в жизнь ни законами, ни административными распоряжениями… Они могут быть только проповедуемы: силой слова и силой примера».
Но насколько непоследователен был Валуев — видно из того, что уже статьей «Воспитание и Образование» он сам доказал, что государство может влиять на нравы общества и законодательным путем, например, путем школьной организации…
Если бы вспомнил граф Валуев нечто другое, недавнее из его административного наблюдения, то он усмотрел бы и другие пути для разрешения социальных вопросов, а именно программные слова апрельского доклада графа Лорис-Меликова Государю-императору Александру II. В числе мер для прекращения внутренней смуты, наряду с возвышением «нравственного уровня духовенства» и др., упомянуто и «установление отношений нанимателей к рабочим» [140].
Но Валуев и эту меру устранил из государственно-социальной программы, как позабыл про реформу Церкви…
Граф Валуев с искренним состраданием писал фразу: «Кому льются слезы человека? Их льется так много! К кому возносится молитва обездоленного труженика, с трепетом помышляющего о бедствиях, угрожающих его семейству?» — но далее молитвы он не пошел в мерах заглушения слез и устранения бедствий.
Вообще, церковно-религиозная политика графа Валуева носила в себе зародыши программы, впоследствии усвоенной и выработанной той общественной группой и тем направлением общественной мысли, которые долгое время именовались западничеством, а теперь называются конституционно-демократической группой. Он был неожиданным предшественником современных правых кадетов!
Валуев признавал и принцип Церкви, и принцип государства; однако то и другое он держал на почтительном расстоянии… Итак, своими практическими советами и действиями граф Валуев не покрыл своих ценных теоретических воззрений. Как практик он содействовал не усилению, не росту Церкви и религиозной жизни в России, а скорее наоборот — еще большему ее понижению. В качестве видного и влиятельного сановника граф Валуев своей теорией о веротерпимости и свободе совести накренил влево курс бюрократического мышления и, расшатавши внешние скрепы между Церковью и Государством (хотя в теории!), в то же время не повлиял на условия внутреннего влияния Церкви и духовенства… Такое направление церковно-государственной жизни могло бы с течением времени сопровождаться вредными последствиями, если бы не деятельность того государственного сановника, который начал приобретать влияние уже в годы пребывания у дел графа Валуева и который был отмечен уже Валуевым в «Дневнике».
«У Покрова в Лёвшине». Повесть впервые опубликована в журнале «Отголоски» за 1881 г., № 5–7, 9. Отдельным изданием вышла в 1892 г. (СПб.).
Читать дальше
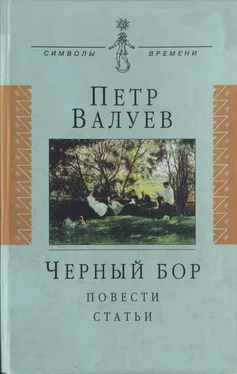






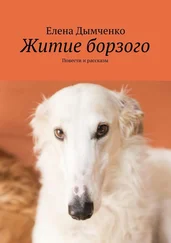
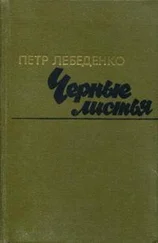
![Михаил Давидов - Тайны гибели российских поэтов - Пушкин, Лермонтов, Маяковский [Документальные повести, статьи, исследования]](/books/401767/mihail-davidov-tajny-gibeli-rossijskih-poetov-push-thumb.webp)