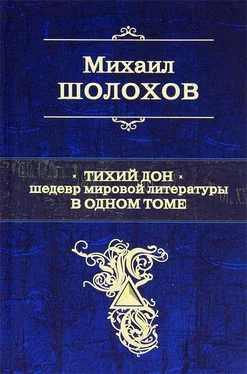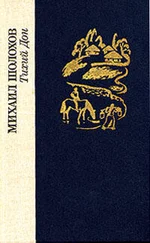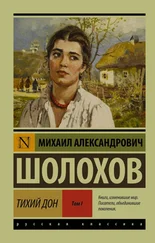— Схватывает.
— Говорил — не езди, чертова сволочь! Ну, что теперя делать?
— Не ру-гай-ся, Гриша… Ох!.. Ох!.. Гриша, за-пря-ги! Домой бы… Ну, как я тут? Тут ить казаки… — застонала Аксинья, перехваченная железным обручем боли.
Григорий побежал за пасшейся в логу лошадью. Пока запряг и подъехал — Аксинья отползла в сторону, стала на четвереньки, воткнув голову в ворох пыльного ячменя, выплевывая изжеванные от муки, колючие колосья. Она распухшими чужими глазами непонимающе уставилась в подбежавшего Григория и, застонав, въелась зубами в скомканную завеску, чтобы рабочие не слышали ее безобразного животного крика.
Григорий уложил ее на поводку, погнал лошадь к имению.
— Ой, не гони!.. Ой, смерть!.. Тря-а-а-а-аоко!.. — кричала Аксинья огрубевшим голосом, катая по днищу повозки всклокоченную голову.
Молча порол Григорий лошадь кнутом, кружил над головой вожжи, не оглядываясь назад, откуда валом полз хриплый рвущийся вой.
Аксинья, стиснув ладонями щеки, дико поводя широко раскрытыми сумасшедшими глазами; подпрыгивала на повозке, метавшейся от края к краю по кочковатой, ненаезженной дороге. Лошадь шла наметом; перед глазами Григория плавно взметывалась дуга, прикрывая концом нависшее в небе ослепительно белое, граненое, как кристалл, облако. Аксинья на минуту оборвала сплошной, поднявшийся до визга вой. Тарахтели колеса, в задке повозки глухо колотилась о доски безвольная Аксиньина голова. Григорий не сразу воспринял наставшую тишину, опомнившись, глянул назад: Аксинья с искаженным, обезображенным лицом лежала, плотно прижав щеку к боковине повозки, зевая, как рыба, выброшенная на берег. Со лба ее в запавшие глазницы ручьями тек пот. Григорий приподнял ей голову, подложил свою смятую фуражку. Скосив глаза, Аксинья твердо сказала:
— Я, Гриша, помираю. Ну… вот и все!
Он дрогнул. Внезапный холодок дошел до пальцев на потных ногах. Григорий, потрясенный, искал слов бодрости, ласки и не нашел; с губ, сведенных черствой судорогой, сорвалось:
— Брешешь, дура!.. — Мотнул головой и, нагибаясь, переламываясь надвое, сжал подвернувшуюся неловко Аксиньину ногу. — Аксютка, горлинка моя!..
Боль, на минуту отпустившая Аксинью, вернулась удесятеренно сильная. Чувствуя, как в опустившемся животе что-то рвется, Аксинья, выгибаясь дугой, пронизывала Григория невыразимо страшным нарастающим криком. Безумея, Григорий гнал лошадь.
За грохотом колес он едва услышал тягуче-тонкое:
— Гри-и-ша!
Он натянул вожжи, повернул голову: подплывшая кровью Аксинья лежала, раскидав руки; под юбкой ворохнулось живое, пискнувшее… Ошалевший Григорий соскочил на землю и путанно, как стреноженный, шагнул к задку повозки. Вглядываясь в пышущий жаром рот Аксиньи, скорее догадался, чем разобрал:
— Пу-по-вину пер-гры-зи… за-вя-жи ниткой… от руба-хи…
Григорий прыгающими пальцами выдернул из рукава своей бязевой рубахи пучок ниток, зажадурясь до боли в глазах, перегрыз пуповину и надежно завязал кровоточащий отросток нитками.
XXI
К просторному суходолу наростом прилипло имение Листницкого — Ягодное. Меняясь, дул ветер то с юга, то с севера; плыло в синеватой белизне неба солнце; наступая на подол лету, листопадом шуршала осень, зима наваливалась морозами, снегами, а Ягодное так же корежилось в одубелой скуке, и дни, отгородившие имение от остального мира, проходили, похожие, как близнецы.
По двору так же ковыляли черные утки-шептуны с красными очкастыми ободками вокруг глаз, бисерным дождем рассыпались цесарки, на крыше конюшни утробным кошачьим голосом мяукали крикливо оперенные павлины. Любил старый генерал всяческую птицу, даже подстреленного журавля держал, и в ноябре дергал тот струны человеческих сердец медноголосым тоскующим криком, заслышав невнятный призыв вольных в отлете журавлей. Но лететь не мог, мертво висело перебитое в сгибе крыло, а генерал, глядя из окошка, как журавль, нагнув голову, подпрыгивает, рвется от земли, — смеялся, разевая длинный, под седым навесом усов, рот, и басовитый смех плавал, колыхался в пустом белом зале.
Вениамин так же высоко носил плюшевую голову, дрожал студенистыми ляжками и целыми днями в передней на сундуке до одури играл в дурака сам с собою. Так же ревновал Тихон рябую свою любовницу к Сашке, рабочим, Григорию, к пану и даже к журавлю, которому уделяла Лукерья избыток переливавшейся через края вдовьей нежности. Дед Сашка время от времени напивался и шел под окна выпрашивать у пана двугривенные.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу