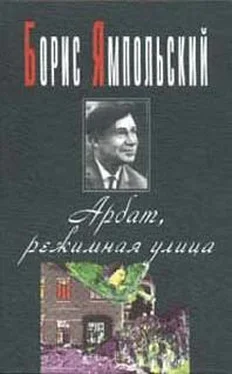И когда она заболела и долго лежала одна в конуре, неизвестно чем питаясь, однажды пришла целая делегация с перевязанной цветной ленточкой картонкой торта – какой-то предместкома этих туалетных учреждений и две женщины, одна такая же точно старуха, копия нашей, а другая совсем молоденькая, в завитых кудряшках, и долго стучались в крохотную дверцу. И странно было слышать обращение предместкома: „Товарищ Сорока! Это к вам от коллектива, товарищ Сорока".
А в ответ – захлебывающийся и куда-то далеко, на тот свет закатившийся кашель и затем хрипло не то проклятье, не то мольба о прощении, не то просьба какая-то к ведомству.
– Товарищ Кухтенкова, – обратился предместкома к пришедшей с ним старухе, – что-то я не понимаю, что она просит.
– Она не просит, она умирает, – спокойно отвечала старуха.
– Тогда надо принимать меры! – крикнул он.
– Какие меры? – так же спокойно, устало отвечала старуха.
А молоденькая заплакала, и кудряшки ее затряслись.
Но старуха Сорока вдруг появилась в дверях, взяла сувенир и снова закрылась у себя.
Еще на первом этаже, прямо подо мной, жила старая отставная актриса, бывшая опереточная дива.
Ночью, всегда только ночью, в самые глухие часы, слышно было, как она поет, репетирует легкомысленные арии надтреснутым дрожащим голосом, и хотелось плакать.
В ночной глухой, обморочной тишине это пение распространялось, как вода, – тонкое, жалкое, с повторными руладами, с натужным взвизгиванием, с лающими срывами.
К чему она готовилась? Зачем? Или в ночном этом мираже к ней приходила ее молодость, ее работа, ее любовь?
Однажды у меня испортился телефон, и я отправился к ней, чтобы позвонить в бюро повреждений.
Дверь открыл мне мальчик, и почему-то он был в каракулевой шапке пирожком и шубе с шалью.
Я сказал:
– Мальчик, можно позвонить?
И он писклявым, капризным голосом обиделся:
– Я не мальчик.
– Простите, – сказал я и разглядел старого лилипута.
– Ничего, – огрызнулся он.
Лилипут с желтым, сморщенным в сушеный финик лицом, несмотря на свой лимитный рост, не понимаю, как это ему удавалось, взглянул на меня как бы сверху вниз, невнимательно и высокомерно.
– Только поскорее, мне некогда.
На стене над аппаратом висел список телефонов:
„Склифосовский".
„Психиатрическая Кащенко".
„Медпиявка".
„Пожар".
„Главрепертком".
„Дулев".
Кто был этот Дулев? Зачем попал он в список срочнейших телефонов? Когда к нему обращались, и чем он мог помочь?
Пока я набирал бюро повреждений и объяснялся, лилипут стоял в сторонке, в углу, в своей шапке пирожком и шубе с шалью, и глядел на меня взглядом презирающим и не признающим моего существования.
Да, лилипут Петр Петрович вскоре умер от инфаркта.
У дверей квартиры стоял гробик, как на младенца.
И было тихо.
Когда умирают люди, пусть это даже лилипут, и в коммунальной квартире на миг все задумываются о тщете, суете жизни, и бывают очень хорошими и чистыми. В этот день на нашей кухне говорили вежливо и грустно.
Овидий
Остается только представить дворника Овидия, кривоногого мужчину с каторжно бритой головой и бельмом на глазу.
Круглое, маслянистое, хитрое лицо его еще издали издавало запах жульничества, и чем ближе он подходил, тем сильнее охватывало вас беспокойство. А когда он стоял рядом, то казалось, все ваши карманы открыты и беззащитны. Но если он входил в комнату, то уже замки и ключи не имели никакого значения, вяли и обессиливались, а он каким-то тринадцатым чувством видел, и понимал, и ощущал деньги, или облигации, или драгоценности, где бы они ни были – в шкатулках, в двойном дне, зашитые за подкладку или даже в тайничке, залитые бетоном.
От бельма величиной с горошину глаз был какой-то козлиный, нелепый, и непонятно было, видит он или нет. Но когда Овидий стоял у ворот, мирно и невинно пропуская мимо себя и глядя на вас, то бельмо это беспокоило больше всего, казалось, он видит и зловеще запоминает именно этим бельмом. И оно беспощадно в своей слепоте.
И звали– то его странным именем, неизвестно как залетевшим в русскую или татарскую деревню (некоторые говорили, что он казанский татарин). Или, может, в младенчестве, при крещении, когда опускали в купель, его нарекли совсем не так, а он сам переиначил по капризу, по случаю или по необходимости? Или это была его кличка в том мире, в той компании, в которой он жил, пока не появился у нас во дворе? Никто точно этого не знал, да, собственно, и не думали об этом.
Читать дальше