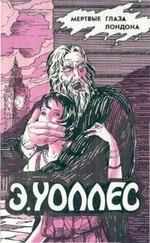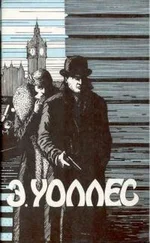На много ступеней выше маркизы, под аркою шлюза стоял, разряженный, и сам Ментони, похожий на сатира. Время от времени он бренчал на гитаре, как бы томимый смертельной скукой, а в перерывах давал указания о спасении своего ребенка. Потрясенный до отупения, я оцепенел с тех пор, как только услышал крик, и, должно быть, предстал перед столпившимися взволнованными людьми зловещим, призрачным видением, когда, бледный, стоя неподвижно, проплыл мимо них в погребальной гондоле.
Все попытки оказались тщетными. Многие из самых настойчивых в поисках умеряли свои усилия и сдавались унылому горю. Казалось, для младенца было мало надежды (а менее того для матери!), но сейчас из упомянутой темной ниши в стене старой республиканской тюрьмы, расположенной напротив окон маркизы, в полосу света выступила фигура, закутанная в плащ, и, остановясь на мгновение перед головокружительной крутизной, бросилась в воды канала. Еще через мгновение, когда этот человек стал, держа еще живого и дышащего младенца, рядом с маркизой, намокший плащ раскрылся, падая складками у его ног, и перед изумленными зрителями предстала стройная фигура некоего совсем молодого человека, имя которого тогда гремело почти до всей Европе.
Ни слова не вымолвил спаситель. Но маркиза! Сейчас она возьмет свое дитя, прижмет к сердцу, вцепится в маленькое тельце, осыплет его ласками. Увы! Другие руки взяли дитя у незнакомца — другие руки взяли дитя и незаметно унесли во дворец! А маркиза! Ее губы, ее прекрасные губы дрожат; слезы собираются в ее глазах — глазах, что, подобно аканту у Плиния, «нежны и почти влажны». Да! Слезы собираются в этих глазах — и смотрите! Дрожь пошла по всему ее телу, и статуя стала живой! Бледный мраморный лик и даже мраморные ноги, мы видим, внезапно заливает неукротимая волна румянца; ее хрупкое тело пронизывает легкий озноб, легкий, как дуновение среди пышных серебристых лилий в Неаполе.
Почему она покраснела? На этот вопрос нет ответа — быть может, потому, что пораженная ужасом мать второпях покинула укромный будуар, забыв обуть крошечные ноги и накинуть на свои тициановские плечи подобающий наряд. Какая сыщется иная возможная причина для подобного румянца? для безумного взгляда умоляющих очей? для необычайного колыхания трепетных персей? для конвульсивного сжимания дрожащей руки? — той руки, что нечаянно, когда Ментони направился во дворец, опустилась на руку незнакомца. Какая сыщется причина для тихого, весьма тихого голоса, которым маркиза, прощаясь с незнакомцем, произнесла бессмысленные слова? «Ты победил, — сказала она (или я был обманут плеском воды), — ты победил: через час после восхода солнца — мы встретимся — да будет так!»
Шум толпы умолк, огни во дворце погасли, и незнакомец, которого я теперь узнал, один стоял на каменных плитах. Он содрогался от непостижимого волнения и взглядом искал гондолу. Я не мог не предложить ему свою, и он принял мою услугу. Добыв на шлюзе весло, мы направились к его жилищу, а он тем временем быстро овладел собою и завел речь о нашем прежнем отдаленном знакомстве с большою и очевидною сердечностью.
Есть предметы, говоря о которых, мне приятно вдаваться в мельчайшие подробности. Личность этого незнакомца — буду аттестовать его так, ибо тогда он еще являлся незнакомцем для всего мира — личность этого незнакомца один из таких предметов. Он был скорее ниже, чем выше среднего роста; хотя бывали мгновения, когда под воздействием сильной страсти его тело буквально вырастало и опровергало это утверждение. Легкая, почти хрупкая грация его фигуры заставляла ожидать от него скорее той деятельной решимости, высказанной им у Моста Вздохов, нежели геркулесовой мощи, которую, как было известно, он обнаруживал в случае большей опасности. Уста и подбородок божества, неповторимые, дикие, блестящие глаза, порою прозрачные, светло-карие, а порою сверкающие густою чернотой — изобилие черных кудрей, сквозь которые, светясь, проглядывало чело необычайной ширины, цветом сходное со слоновой костью, — таковы были его черты, и я не видел других, столь же классически правильных, кроме, быть может, у мраморного императора Коммода. И все же его облик был таков, что подобных ему впоследствии никто не видывал. Он не обладал единым, постоянно ему присущим выражением, которое могло бы запечатлеться в памяти; облик его, единожды увиденный, мгновенно забывался, но забывался, оставляя неясное и непрестанное желание вновь вспомнить его. Не то чтобы никакая буйная страсть не отбрасывала четкое отражение на зеркало этого лица — но это зеркало, как зеркалам и свойственно, не оставляло на себе следа страсти, как только та проходила.
Читать дальше

![Артур Кларк - Свидание с Рамой [Город и звезды. Свидание с Рамой]](/books/104059/artur-klark-svidanie-s-ramoj-gorod-i-zvezdy-svid-thumb.webp)