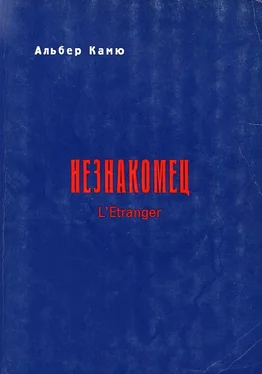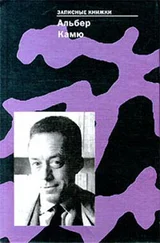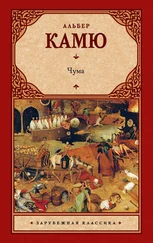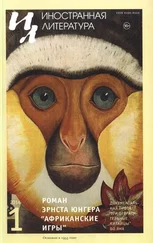В связи со всем этим мне вспомнилось то, что рассказывала мне мама об отце. Отца я не знал. К рассказу этому, пожалуй, и сводились единственные определенные мои сведения о нем. Однажды он пошел досмотреть на казнь убийцы. Самая мысль о таком зрелище заранее ужасала его. Все же он отправился, а когда вернулся, у него сделалась рвота, продолжавшаяся все утро. Рассказ этот вызвал во мне легкое отвращение к отцу. Но теперь я его понял, и поступок его казался мне естественным. Как мог я прежде не сознавать что нет ничего значительнее смертной казни и что в сущности для человека, для мужчины это единственная подлинно интересная вещь на свете! Если когда-нибудь я из тюрьмы выйду, то не пропущу ни одной казни. Но, пожалуй, я напрасно думал об этом.
Ибо при мысли, что я стою на рассвете перед отрядом полицейских, но стою, так сказать, по эту сторону, при мысли, что я добровольный зритель, которого затеи может и вырвать, какая-то ядовитая радость охватывала все мое существо. Но было это ни к чему. Не проходило и минуты, как мне становилось так страшно холодно, что я весь съеживался под одеялом. Зуб на зуб не попадал, я не в силах был с собой совладать.
Всякий знает, однако, что нельзя всегда вести себя разумно. Случалось, я придумывал новые законы. Мысленно я проводил реформу уголовного кодекса. На мой взгляд, самым существенным было бы предоставление осужденному известного шанса. Один шанс на тысячу, и то было бы не плохо. Мне представлялось, например, что можно было бы изобрести порошок, который по химическому своему составу убивал бы пациента (мысленно я употреблял именно это выражение: пациент) лишь в девяти случаях из десяти. Осужденный был бы предупрежден, таково было бы условие. Что же касается гильотины, то после обстоятельного, спокойного размышления я пришел к выводу, что неприемлемо в ней полное, абсолютное отсутствие какого либо шанса. Беспрекословно постановлено, что пациент должен умереть. Ни о каких пересмотрах, колебаниях, возражениях не допускается и речи. Если нож почему-либо срывается, операцию возобновляют. Осужденному значит приходится желать, — и это-то меня и коробило, — чтобы машина действовала исправно. Неприемлемо, скажу еще раз. Однако, если с одной стороны это так, то с другой нельзя не признать, что в этом-то и обнаруживается отличная организация. Осужденный поневоле превращается в сотрудника. В своих же собственных интересах он принужден желать, чтобы все прошло без задоринки.
Должен также признать, что до сих пор суждения мои по этим вопросам были ошибочны. Не знаю почему, мне представлялось, что приговоренный к гильотинированию должен взойти на эшафот по лестнице. Вероятно казалось мне это из-за революции 1789 года, т. е. из-за всего, что я читал или видел на картинках. Но однажды утром мне вспомнилась фотография появившаяся в газетах в связи с казнью, которая наделала много шума. Машина стояла прямо на земле, без каких либо ухищрений. Она была далеко не так широка, как я предполагал. На снимке эта стройная и прекрасно отшлифованная машина поразила меня сходством с прибором точного измерения. Впрочем, то, чего мы не знаем, всегда представляется нам сложнее, чем есть оно на самом деле. Я убедился, что в действительности все было просто: машина находится на уровне направляющегося к ней человека. Он подходит к ней, как мог бы подойти к первому встречному. Это тоже было мне не по душе. Эшафот, лестница, по которой поднимаешься будто к небу, с этим воображение могло бы примириться. Но тут была одна только мертвящая механика: убивали тебя втихомолку, с легким стыдом и большой точностью.
Были еще две вещи, о которых я постоянно думал: рассвет и обжалование приговора. Я убеждал себя, что мысли это никчемные, и старался отвлечься. Я ложился на спину, смотрел на небо, искал в нем чего-либо такого, что приковало бы мое внимание. Небо становилось зеленым, наступал вечер. Я снова делал усилие, чтобы рассеяться, прислушивался к биению своего сердца. Мне казалось невероятным, чтобы звук, с которым я так давно свыкся, мог прерваться. Воображения у меня всегда было маловато. Однако я все же пытался представить себе то мгновение, когда биение сердца не отзовется больше в моем мозгу. Но удавалось мне это плохо. Рассвет или помилование: больше ни о чем я думать не мог. В конце концов я решил, что насиловать себя бессмысленно.
Приходят они на рассвете, это я знал. Ночи мои и проходили в ожидании рассвета. Неожиданностей я не любил никогда. Лучше знать заранее, что должно с тобой случиться. Поэтому я засыпал, да и то не надолго, лишь днем, а ночами терпеливо ждал, чтобы за окном забрезжил свет. Самым тягостным был тот неопределенный час, когда по моим сведениям это обычно происходит. Начиная с полуночи я ждал и прислушивался. Никогда еще слух мой не улавливал столь разнообразных звуков и еле различимых шорохов. Должен все-таки сказать, что мне везло, так как шагов я не услышал ни разу. Мама часто говорила, что никогда человек не бывает безгранично несчастен. Едва розовело небо и в моей камере становилось светлее, я мысленно с ней соглашался. Ибо могло ведь случиться, что послышались бы шаги и сердце мое разорвалось бы. Даже если при малейшем шорохе я бросался к двери, даже если прижавшись к ней я ждал, ждал, пока в тишине не слышал своего собственного дыхания, пугавшего меня тем, как оно прерывисто и как напоминает предсмертный хрип собаки, даже в этих случаях сердце мое продолжало биться и впереди были еще целые сутки.
Читать дальше