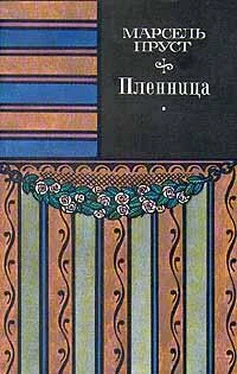Если вот так, из тоски по ком-либо, из неуверенности, сможешь ли ты его удержать или он ускользнет, возникает любовь, то на любви этой лежит печать породившей ее революции, и она лишь очень смутно напоминает то, что представлялось нам до сих пор, когда мы думали о любимом существе. И лишь малая часть моих первых впечатлений от Альбертины, сложившихся на берегу моря, продолжала жить в моем чувстве к ней; на самом деле давние впечатления занимают небольшое место в такого рода любви с ее силой, с ее страданиями, с ее потребностью в ласке и с ее тягой к воспоминанию спокойному, успокаивающему, с желанием укрыться в нем и больше ничего не знать о любимой, хотя бы о ней ходили темные слухи; даже если вы сохранили давние воспоминания, такая любовь создана из совсем другого материала!
Иной раз я тушил свет до ее прихода. Она ложилась рядом со мной в темноте, при слабом свете головешки, указывавшем ей дорогу. Мои глаза, часто боявшиеся найти в ней перемену, не видели ее – ее узнавали только мои руки, мои щеки. Благодаря такой слепой любви, она, быть может, чувствовала, что я проникнут к ней нежным чувством, более глубоким, чем обыкновенно.
Я раздевался, ложился, Альбертина садилась в уголочек кровати, и мы продолжали отложенную партию в карты или разговор, прерванный поцелуем; и, охваченные желанием, – а ведь только желание пробуждает в нас интерес к жизни и к характеру женщины, – мы остаемся такими верными нашей натуре, мы так скоро забываем одну за другой тех, кого мы любили прежде, что как-то раз, увидев себя в зеркале в тот момент, как я обнимал Альбертину и называл ее «моя девочка», увидев скорбное и страстное выражение моего лица, похожее на то, какое у меня бывало, когда я смотрел на Жильберту, о которой я теперь и не вспоминал, – быть может, на другой день после того, как я давал себе клятву навсегда забыть Альбертину, – я невольно подумал, что, несмотря на все сложившиеся у нас мнения о человеке (инстинкт требует, чтобы мы считали последнее наше мнение самым верным), я не мог не исполнить долг пламенного и мучительного обожания, не принести как бы жертвы женской молодости и красоте. И все-таки к желанию, приносившему в честь молодости некий обет, а также к бальбекским воспоминаниям у меня примешивалось выражавшееся в потребности все вечера не отпускать от себя Альбертину нечто до сих пор чуждое мне, во всяком случае – чуждое моим сердечным делам, а может быть, даже и совсем для меня новое. То было успокоение, какого я не испытывал со времен далеких вечеров в Комбре, когда мать, склонившись над моей кроватью, успокаивала меня поцелуем. Конечно, я был бы тогда очень удивлен, если б мне сказали, что во мне есть дурные черты, главное – что я все время стараюсь кого-нибудь лишить удовольствия. Без сомнения, я потом поступал дурно; вместо удовольствия, заключавшегося в том, что Альбертина живет в моей квартире, я должен был бы доставить себе менее эгоистичное удовольствие – уйти из того мира, где каждого могла бы увлечь девушка в цвету; если уж она не внесла в мою жизнь большой радости, то пусть бы она не лишала ее других. Честолюбие, слава меня не волновали. Еще менее я был способен кого-нибудь возненавидеть. А вот плотская любовь, радость победы над множеством соперников – это было во мне сильно. Об этом я никогда не устану говорить, это было самым большим моим успокоением.
Я мог сколько угодно, пока Альбертина не вернулась, сомневаться в ней, воображать, что она в Монжувене, – раз она в пеньюаре сидела напротив моего кресла или если, чаще всего, я лежал в постели, я опять начинал говорить ей о своих подозрениях, я донимал ее своими подозрениями для того, чтобы она избавила меня от них, – так от верующего требуют покаяния на исповеди. Она могла целый вечер, шаловливо свернувшись клубочком на моей кровати, играть со мной, как большая кошка; в ее розовом носике, кончик которого становился еще меньше, и кокетливом взгляде, какой бывает у лукавых, избалованных, холеных существ, было что-то задорное, зовущее; вот она, распустив длинную черную прядь волос по щеке, точно из розоватого воска, полузакрыла глаза, руки у нее повисли, и весь ее вид говорит: «Делай со мной что хочешь»; когда, в момент расставания, она подходила попрощаться, я целовал почти родственную нежность двух сторон ее крепкой шеи – теперь я не находил, что шея у нее чересчур загорелая и что у нее слишком большие родинки, как будто эти важные качества имели какое-то отношение к неизменной доброте Альбертины.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу