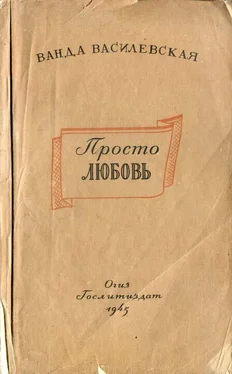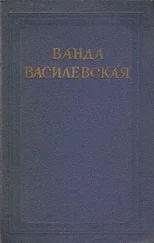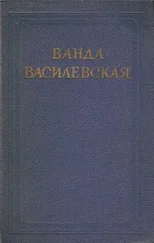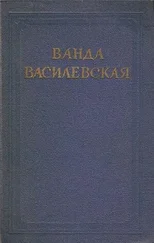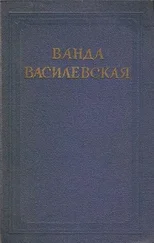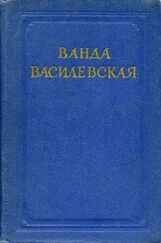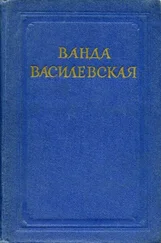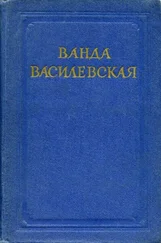— Я устал, — говорит Григорий, — прости, но я сейчас лягу.
Григорий ложится, тихо говорит: «Спокойной ночи» — и отворачивается к стене.
И Мария одна легла спать. Но сон не идёт. Сердце заливает мучительный стыд. Чего она боялась? Она почувствовала себя такой маленькой и жалкой. В этот момент не он был калекой — увечным, загрязнённым и недостойным было её сердце.
На сквере было грязно, крупные капли дождя падали с ветвей, голых и серых. Мария шла, глядя на широко разлившиеся лужи. Они вышли к реке. Лёд ещё не растаял, он почти не отличался от грязи на сквере, его истоптали во всех направлениях узкими тропинками ноги прохожих, на нём лежала сажа, сухие листья.
Она облокотилась на каменную балюстраду. Когда-то здесь текла вода, живая, сверкающая, подвижная, торопящаяся в свой далёкий путь. Когда-то здесь проплывали лодки, полные смеющейся молодёжью, дышал сильной грудью пароход, распарывая сверкающую поверхность. Когда-то в зеркале воды отражалось небо с плывущими в нём облаками и юная, улыбающаяся зелень деревьев. Теперь не было ничего. Мёртвая, грязная поверхность истоптанного льда.
Воронцов кашлянул. Она обернулась к нему. Он смотрел на неё неуверенным, смущённым взглядом. Он проглотил слюну, она видела, как вздрогнула его шея и как при этом беспомощно и глупо зашевелились его маленькие усики. Ему нелегко было сказать, для чего он просил её об этой встрече. Она могла бы помочь ему, но не хотела.
Она плотнее застегнула воротник пальто. От замёрзшего русла реки тянуло холодом. Она глядела на грязный лёд, на застывшую кору, на безнадёжную серость.
— Я не могу смотреть на всё это… Мария. Ты знаешь, я люблю тебя. Любил ещё раньше, чем ты вышла замуж за Григория.
— На курсах? — спросила она равнодушно, как будто речь шла не о ней.
— Да, на курсах… Ты не замечала этого или не хотела замечать…
— Я не знала, — сказала она спокойно. — И если бы даже знала…
— Да, да, ты хочешь сказать, что это тоже ничего бы не изменило, — прервал он с необычным для него раздражением. — Ты можешь не говорить мне этого, я это прекрасно знаю… Но видишь ли… С тех пор это и продолжается. Ты вышла за Гришу, — ну, ладно. Я примирился с судьбой, ты же видела, что я не добивался твоего расположения, не пытался соперничать с Григорием… Я вёл себя, как друг, не правда ли, Мария?
— Да, — согласилась она, глядя за реку на серые дома, возвышающиеся напротив. Окна, окна без конца… За каждым окном кто-то живёт, за каждым окном таится человеческая жизнь, человеческая жизнь смотрит на замёрзшую реку в серый, туманный день, сквозь мутные стёкла.
— А потом… — голос Воронцова дрогнул. — Потом я думал… Мне казалось, что я стал тебе нужен. Тебе никогда не было со мной скучно, так мне казалось… У нас было столько общих интересов, столько общих дел… Я думал, всё образуется и случится то, что не случилось тогда, когда я познакомился с тобой.
Она, не слушая, кивала головой.
Всё было, как во сне, как в мягком, густом тумане. Нереальны были слова, события, предметы. Да, ведь она уже давно живёт, как во сне, тяжком, удушающем, сером сне…
— А теперь я всё смотрю… И больше не могу выдержать. Ты мучишься, гибнешь на глазах, стала другим человеком…
Значит, и он уже это знает, значит, и он видит, что она стала кем-то другим, что уже нет прежней Марии…
— Я понимаю, можно жертвовать собой, если любишь… Хотя, даже в таких случаях, самопожертвование не всегда даёт хорошие результаты для обеих сторон… Но тут ведь я вижу, Мария, что ты его уже не любишь, ты не можешь его любить.
Она молчала. Серая река, серые дома, серый день. Чего же он так волнуется, чего он так мучится, этот Воронцов? И ведь ещё совсем недавно он говорил другое. Есть что-то омерзительное в том, что он говорит, и во всей этой его муке. И, наконец, что стоят в мире страдания и муки? Что в мире имеет какую-либо ценность? И он считает возможным с подобной мерзостью обращаться к ней? Впрочем, какое право она имеет требовать другого отношения?
— Да, да, не отрицай, ты уже не любишь его.
Зачем он это говорит? Она ведь и не отрицала. Ей всё казалось, что звуки его слов доносятся откуда-то издалека, из-за густого, серого тумана, что они, собственно говоря, обращены не к ней и плывут мимо неё, как эта невидимая подо льдом вода, журчащая по илистому дну.
— Не только не любишь. Не сердись за то, что я скажу, но ведь это ясно, ты к нему испытываешь страх… Я же вижу, понимаю. Нет смысла… Ведь и Григорий не может не чувствовать, не понимать этого. Что же ты даёшь ему? Уход? Но это может делать любая сестра, не будучи его женой.
Читать дальше