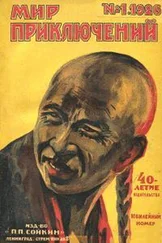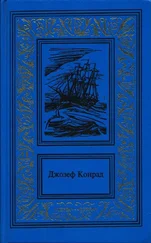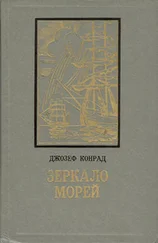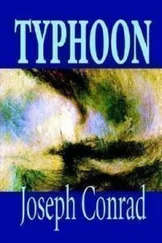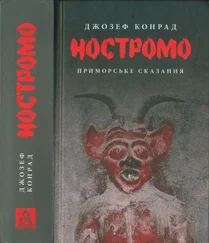Он получил депешу из Каиты, которая сообщала, что пароходы с армией Барриоса только что прибыли в порт, и кончалась словами: „Войска полны энтузиазма“. Я подошел к фонтану, и какой-то спрятавшийся за деревом негодяй выстрелил в меня с Аламеды. Однако я пренебрег этим и продолжал пить: сейчас, когда Барриос высадился в Каите, а от победоносной армии Монтеро нас отделяют непроходимые хребты Кордильер, мне кажется, я крепко держу в руках свою новую республику, невзирая на господ Гамачо и Фуэнтеса. Я собирался лечь спать, но когда дошел до Каса Гулд, оказалось, что внутренний дворик полон раненых, лежащих прямо на соломе. Горели фонари, стояла душная ночь, и в замкнутом стенами дворе пахло хлороформом и кровью. В дальнем конце дворика рудничный доктор Монигэм перевязывал раненых; на противоположном, у подножья лестницы, отец Корбелан, стоя на коленях, исповедовал умирающего каргадора. Миссис Гулд ходила среди этих жертв побоища с бутылью в одной руке и большим комком ваты в другой. Она посмотрела на меня отсутствующим взглядом. Ее горничная шла за ней следом, тоже с бутылью, и тихо плакала.
Я стал носить из водоема воду для раненых. Потом отправился на верхний этаж и на лестнице встретил нескольких дам из самых знатных семейств, которые выглядели бледней, чем обычно, и несли, набросив их на плечи, бинты. Оказывается, далеко не все здешние дамы спаслись бегством на пароходах. Люди честные в этот страшный день нашли приют в Каса Гулд. На лестничной площадке девушка с распущенными волосами преклонила колени перед нишей, где стоит мадонна в голубых одеждах с позолоченным нимбом вокруг головы. По-моему, это была старшая мисс Лопес; лица мне не удалось разглядеть, зато бросился в глаза высокий французский каблук ее маленькой туфельки. Она была безмолвна, не шевелилась и даже не плакала; в полной неподвижности застыла она так — черный силуэт на фоне белой стены, молчаливое воплощение страстного благочестия. Я уверен, она испугалась ничуть не больше, чем те бледнолицые дамы, которые с бинтами шли навстречу мне по лестнице. Одна из них села на верхние ступеньки и торопливо рвала на полосы кусок простыни — молодая супруга пожилого местного богача. Я ей поклонился, и она, оставив свое занятие, махнула мне рукой в ответ, словно ехала в карете по Аламеде. На женщин нашей родины нужно смотреть, когда в стране происходит восстание. Спадает слой румян и перламутровой пудры, и вместе с ним они сбрасывают с себя безразличие к окружающему миру, которым с первых лет младенчества наделяют их воспитание, традиции, обычай. Мне вспомнилось твое лицо, отмеченное с детства печатью живого ума, и я подумал, как оно непохоже на лица этих женщин, выражающие безропотное смирение, когда недобрый ветер политических бурь сдувает с них косметику и заученную мину.
В большой гостиной наверху заседало нечто вроде совета старейшин, остатки канувшей в Лету Генеральной Ассамблеи. У дона Хусте Лопеса обгорело полбороды, когда он наклонился к дулу, заряженному как назло самодельными пулями, и сейчас все с болью в сердце поглядывали на него. Когда дон Хусте поворачивал голову, казалось, что внутри его фрака помещаются два человека: один импозантный с аристократическими бакенбардами, а второй испуганный и неопрятный.
При моем появлении все закричали: „Декуд! Дон Мартин!“ Я спросил: „О чем вы совещаетесь здесь, господа?“ По-моему, у них не было председателя, хотя дон Хосе Авельянос сидел во главе стола. Они ответили хором: „О том, как сохранить нашу жизнь и собственность“. „До прибытия новых должностных лиц“, — добавил дон Хусте, повернувшись в мою сторону импозантной стороной лица. Мне показалось, что струя холодной воды хлынула на разгоравшуюся во мне идею свободной республики. В ушах у меня зашумело, все расплылось перед глазами, будто комната внезапно наполнилась туманом.
Я неуверенно, как пьяный, подошел к столу. „Вы совещаетесь о том, как сдаться“, — сказал я. Все сидели неподвижно, уткнув носы в листки бумаги, лежавшие, бог знает зачем, перед каждым из них. И только дон Хосе закрыл лицо руками и тихо произнес: „Никогда! Никогда!“ Но чем дольше я смотрел на него, тем сильнее мне казалось, что стоит только дунуть, и он улетит, — таким хрупким, таким слабым, таким изнуренным он выглядел. Он не выживет, что бы ни произошло. Человек его возраста не может перенести такого крушения надежд; к тому же разве он не видел, как страницы „Пятидесяти лет бесправия“ валялись на Пласе, плавали в сточных канавах, служили пыжами для петард, заряженных горстями типографских литер, носились по ветру, как их затаптывали в грязь? Я заметил даже, как некоторые страницы покачивались на волнах залива. Безрассудно ожидать, что он выживет. Безрассудно и даже жестоко.
Читать дальше