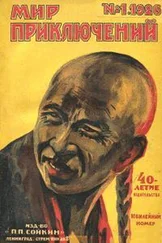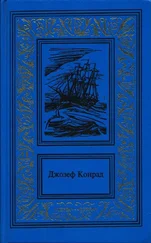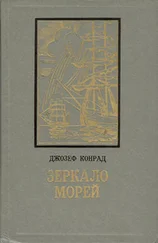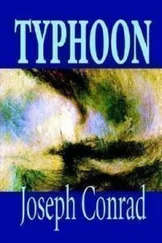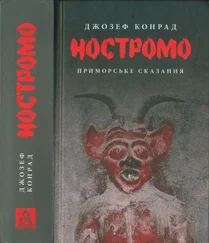Миссис Гулд, слушая его мелодичный немного грустный голос, глядя на круглое, смуглое лицо в очках, на фигуру его превосходительства, отличавшегося малым ростом и чуть ли не болезненной тучностью, думала, что этот человек, деликатный, меланхолического склада и притом почти калека, отказавшийся от покоя и уединения и по призыву своих единомышленников вступивший на опасный, полный превратностей путь, как никто иной имеет право говорить о самопожертвовании. Тем не менее ее угнетала тревога. Он внушал скорее жалость, чем надежду, этот первый штатский — за всю историю страны — глава правительства Костагуаны, призывающий с бокалом в руке к миру, честности, уважению к закону, политической добропорядочности как внутри страны, так и в международных связях — гарантиям национальной чести.
Он сел. Раздался почтительный гул голосов, и, покуда собравшиеся за столом обменивались одобрительными замечаниями по поводу произнесенной президентом речи, генерал Монтеро поднял тяжелые набрякшие веки и с тупым беспокойством вглядывался в лица, окружавшие его. Вылезший из глухой провинции военный герой, хотя и радовался в глубине души переменам, которые принес ему внезапный взлет (он еще ни разу в жизни не бывал на борту корабля, да и море видел редко и только издали), но чутье ему подсказывало, что угрюмый, грубый, неотесанный вояка обладает неким преимуществом перед окружающими его утонченными аристократами партии «бланко». Так почему ж никто не смотрит на него, сердито думал он. Он кое-как умел читать газеты и знал, что никто иной, как он, совершил «величайший воинский подвиг современности».
— Мужу хотелось, чтобы провели железную дорогу, — сказала миссис Гулд сэру Джону, когда за столом опять возобновились прерванные разговоры. — Ведь все это приметы тех самых перемен, которых мы так жаждем для нашей страны; она и так ждала их слишком долго и, видит бог, измучена этим тяжелым ожиданием. Но признаюсь, когда позавчера во время своей ежедневной прогулки я вдруг увидела, как из лесу выехал молодой индеец, держа в руке красный флажок поисковой партии вашей компании, мне стало неприятно. Я знаю, перемены неизбежны, все полностью должно измениться. Тем не менее даже здесь, у нас, есть уголки, простые и в то же время живописные, которые хотелось бы сохранить.
Сэр Джон слушал, улыбаясь. Но тут вдруг наступил его черед призвать миссис Гулд к молчанию.
— Генерал Монтеро хочет что-то сказать, — прошептал он и тут же с комическим ужасом добавил: — Боже милостивый! Я всерьез опасаюсь, как бы он не вздумал предложить тост за мое здоровье.
Генерал Монтеро тем временем встал, звякнув ножнами, сверкнув вышитой золотом грудью; над краем стола появился массивный эфес его сабли. В пышном мундире, с бычьей шеей, крючковатым носом, приплюснутый кончик которого находился прямо над иссиня-черными крашеными усами, генерал производил впечатление зловещего переодетого вакеро. У него был низкий голос, в котором звучало нечто странное, скрипучее, металлическое. Запинаясь, он пробормотал начальные, довольно бессодержательные фразы; потом внезапно поднял голову и голосом, столь же внезапно окрепшим, резко выпалил:
— Честь этой страны в руках армии. Можете быть спокойны, я ее не уроню. — Он запнулся, беспокойно озираясь, затем увидел сэра Джона и вперил в его лицо сонливый мрачный взгляд; тут на память ему пришла, очевидно, сумма только что полученного займа. Он поднял бокал. — Пью за здоровье человека, который нам дает полтора миллиона фунтов.
Он залпом выпил шампанское и грузно опустился на стул, обводя растерянным и в то же время задиристым взглядом лица всех сидящих за столом, где после удачного тоста генерала воцарилось глубокое и, казалось, испуганное молчание. Сэр Джон не шелохнулся.
— Я думаю, мне можно не вставать, — шепнул он миссис Гулд. — Такие тосты не нуждаются в ответе.
Но тут на помощь пришел дон Хосе Авельянос и произнес краткую речь, в которой прямо сказал о благосклонном отношении Англии к Костагуане, «благосклонном отношении, — подчеркнул он, — о коем я имею возможность судить со знанием дела, поскольку в свое время был аккредитован при Сент-Джеймском дворце» [57] До короля Георга I (1660–1727) Сент-Джеймский дворец был резиденцией английских королей, поэтому и впоследствии английский двор часто называли Сент-Джеймским.
.
И только тут сэр Джон счел необходимым произнести ответную речь, весьма изящно прозвучавшую на скверном французском и прерываемую аплодисментами и восклицаниями «Слушайте! Слушайте!» в тех местах, где капитану Митчеллу удавалось понять какое-нибудь слово. Завершив свой спич, железнодорожный магнат сразу обратился к миссис Гулд:
Читать дальше