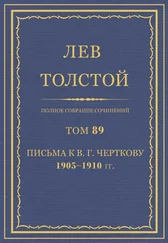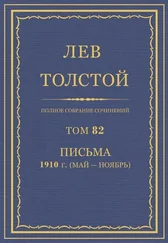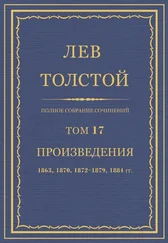— Вы ее знали до замужества? — спросила я у дяди, когда измучавшая насъ въ лучшее время лѣта своимъ 10 часовымъ посѣщеніемъ Анна Васильевна Корчагина съ своими молчаливыми дочерьми и несноснымъ крикуномъ мужемъ наконецъ уѣхала. Я ходила провожать ихъ на крыльцо и, вернувшись на терасу къ дядѣ, замѣтила, что онъ, отставивъ руку съ потухнувшей сигарой, особенно задумчиво и нѣжно смотрѣлъ, не видя, на темную въ тѣни зелень липовой аллеи съ ея обсыпанными цвѣтомъ вѣтвями.
Любовно-нѣжное и тихое выраженіе его глазъ теперь и улыбка, морщившая подъ сѣдыми усами его губы, въ то время какъ онъ вспоминалъ съ Анной Васильевной какое то давнишнее его посѣщеніе ихъ какой то Казанской деревни, заставляло меня думать, что что то было особенное между ними. Но такъ странно было думать, чтобы между дядей, занятымъ только политикой, картами и службой и Анной Васильевной, такого дурнаго и непріятнаго тона дамой, съ напомаженнымъ пустымъ мѣстомъ пробора волосъ, и занятой только тѣмъ, чтобы быть comme il faut, могла быть когда нибудь любовь, что я не вѣрила себѣ. —
— А что? — сказалъ онъ, когда я спросила его, и опять чуть замѣтно радостно улыбнулся.
— Ничего, я такъ. —
— Ты думаешь, что она всегда такая была! Она была прелестна, и едва ли я кого нибудь такъ не то что сильно, но такъ хорошо любилъ, какъ ее.
— Что вы говорите? Не можетъ быть, — вскрикнула я съ такимъ удивленіемъ, что онъ почти засмѣялся.
— Ты думаешь, что вамъ однимъ позволено любить?
— Нѣтъ, серьезно?
— Еще какъ серьезно! Въ жизни у всѣхъ насъ, а особенно у меня в моей пустынѣ Сахарѣ, [въ] жизни были оазисы, и это едва ли не лучшій! Навѣрно лучшій. —
Тонъ его побѣдилъ меня. Я ужъ не удивлялась, но всей душой сочувствовала ему и хотѣла и не могла понять, какъ это могло быть.
Онъ долго посмотрѣлъ на меня.
— Дядя, разскажите мнѣ.
— Вотъ, когда ты такъ смотришь... — Ну, хорошо, я расскажу. Только постой. Ты видѣла у брата мой портретъ?
— Ну да, про который я проиграла...
— [139]...пари, что это не я. — Да, но ты помни, что этотъ сертукъ былъ тогда новомодной. Ну, да вотъ дай свой поясъ.
— Мнѣ широкъ, — сказала я, снимая.
[140]Онъ отмѣрилъ три четверти съ двумя пальцами, прикинулъ себѣ за спину, — концы пояса чуть показались по краямъ его живота.
— Ну вотъ, это была моя талія. [141]И этаго ничего не было, — сказалъ онъ, своей красивой загорѣлой рукой поднимая длинные бѣлые бакенбарды.
— Ну, однимъ словомъ, вы были кто-то такой, но не дядя, а въ тысячу разъ хуже.
— Пожалуй, что хуже. Но я былъ такой. — Ну вотъ... — Я былъ еще въ университетѣ...
— Нѣтъ, да вы хорошенько все, все разскажите, чтобъ я поняла. Я не могу представить себѣ, чтобы вы тоже соблазнялись.
— Ну, хорошо. [142]
Мнѣ было 16 лѣтъ. Я только что поступилъ въ университетъ и по[с]лѣ напряженнаго, столь чуждаго 16-ти лѣтнему, [143]здоровому, полному жизни малому труда приготовленія къ экзамену пріѣхалъ къ дядѣ въ деревню.
Ходя въ грохотѣ мостовой по раскаленнымъ майскимъ солнцемъ пыльнымъ городскимъ улицамъ, по бульварамъ съ запыленными липками, я думалъ о деревнѣ, настоящей деревнѣ, въ которой я выросъ и [воображалъ себя] въ деревнѣ большимъ, студентомъ, <���безъ принужденныхъ занятій,> съ правомъ когда хочу ѣхать верхомъ, купаться, идти на охоту, лежать съ книжкой въ саду и ничего не дѣлать кромѣ того, что мнѣ хочется, и это счастье казалось мнѣ столь великимъ, что я не вѣрилъ въ его возможность и отгонялъ мысль о немъ, чтобы не потерять послѣдней силы работать къ экзамену.
Но экзамены прошли, съ своими страшными тогда и тотчасъ же забытыми перипетіями, съ сомнительнымъ баломъ изъ латыни; я надѣлъ мундиръ и снялъ его и, распростившись съ профессоромъ, у котораго жилъ, въ первый разъ одинъ поѣхалъ на почтовыхъ и пріѣхалъ къ дядѣ и скоро замѣтилъ, что я ожидалъ слишкомъ многаго, что было все то, чего я ожидалъ, но что въ этомъ положеніи, въ деревнѣ, ожидалъ [я] еще большаго, и еще больше была несоответственность того, что я имѣлъ, съ тѣмъ, чего желалъ, чѣмъ она была, когда я держалъ экзамены.
Дядя, бывшій лейбъ гусаръ, воспитанный у езуитовъ, утонченный, остроумный старикъ (какъ мнѣ тогда казалось, ему было подъ 50) принялъ меня ласково и отвелъ мнѣ комнатку во флигелѣ. Дядя цѣнилъ въ людяхъ больше всего внѣшность, чистоплотность, элегантность одежды, рѣчи и манеръ. Съ свойственной молодости способностью поддѣлываться подъ чужіе взгляды, я тотчасъ же усвоилъ себѣ то, что ему нравилось, и онъ былъ мною вполнѣ доволенъ. Я сходился съ нимъ и съ теткой за обѣдомъ и ужиномъ, иногда сидѣлъ и, чувствуя себя польщеннымъ его вниманіемъ, какъ къ большому, слушалъ его разсказы, слушалъ его музыку и рѣчи о музыкѣ, и самъ разсказывалъ ему. Иногда онъ заходилъ ко мнѣ въ мой флигель и радовался на чистоту и акуратность, въ которой я держалъ свое помѣщеніе.
Читать дальше