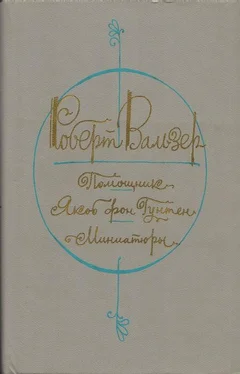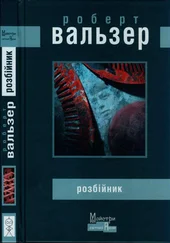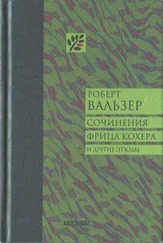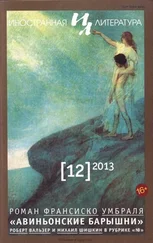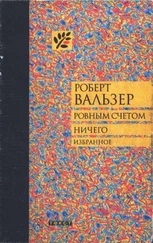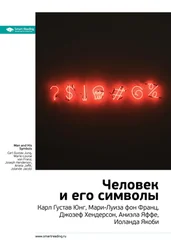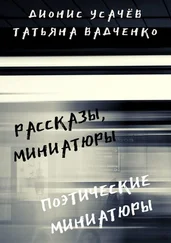Слава его, впрочем, была очень странной — очень громкой, но в очень узком литературном кругу. Настолько узком, что в него не входили некоторые ведущие литераторы. Любопытно, например, что ни щедрый на похвалы Томас Манн, с поразительной снисходительностью раздававший пропуска в бессмертие, ни куда более нетерпимый и резкий Бертольт Брехт, зорко следивший за конъюнктурой имен на литературной бирже, Роберта Вальзера за всю свою и его жизнь (все трое умерли почти одновременно) не удостоили даже словом; для них, ведавших глобальной традицией, он был незаметен. Но были и другие, не менее именитые литераторы, которые отзывались о нем с восторгом, — Моргенштерн, Гессе, Музиль, Кафка.
Этого последнего проницательный Роберт Музиль уличил даже в эпигонстве: «Мне все же кажется, — писал он в одной из рецензий, — что особенности Вальзера должны остаться его особенностями, они не годятся для того, чтобы образовать направление; потому-то и не удовлетворяет меня первая книга Кафки, что Кафка предстоит в ней вторичной разновидностью Вальзера…» [1] Uber Robert Walser. Fr./M., 1978, Bd. I,S. 90.
И далее, развивая сопоставление, Музиль пишет о том, что Кафка лишь перекладывает на минорный манер то, что у Вальзера было мажорным; австриец покрывает печальным флером меланхолии «свежую мощность барокко», к традиции которого он относит швейцарца.
Это сопоставление само обладает изначальной свежестью наблюдения. Поэтика барокко — в асимметриях, в таких искажениях и смещениях натуры, которые лишь подчеркивают ее мощь; память о трагических безднах только придает искусству барокко грандиозность жизнеутверждения. Вальзер и Кафка, начав одинаково — с простого, незатейливого, пунктирно-легкого описания близлежащего предметного мира, оба незаметно соскальзывают в «остранение», то есть показ этого мира как странного, причудливого, подчас гротескно-небывалого, однако идейный фон, а стало быть, и самый лад, и звук их прозы разный; там, где у Кафки нетерпимость, отчаяние, беспросветная тьма, у Вальзера — прощение, надежда, надежность ровного света.
Однако осваивать такую «культурную» традицию, как барокко, Вальзер мог только стихийно. Он был, что называется, Naturtalent. Значение этого немецкого слова нечаянно, но точно раскрыл Максим Горький, — когда говорил о Есенине как об органе, созданном самой природой для поэзии. Еще можно сказать: самородок. Тут и естественность, и чистота, и сила, которой в интуитивном прозрении дается все то, чем гордится книжная, неустанным накопительством живущая мудрость, но дается еще и то, что не заёмно — единственная точность и глубина искусством обернувшегося народного прозрения и вздоха.
Положение пришельца-самородка в устоявшейся литературной среде нередко бывает двусмысленным. Полувосхищение, полунасмешливое полупризнание — вот что зачастую его ожидает.
Сохранилось немало связанных с Вальзером историй, которые свидетельствуют о том, что воспринимали его именно так — в разладе сути и внешних ее проявлений.
То его поджидал искавший знакомства маститый, модный литератор — и опешил, открыв дверь простоватому пареньку с пышным чубом и заскорузлыми, красными, как кирпич, руками: водопроводчик, почтарь, посыльный? То некий журналист приехал брать интервью и никак не мог опознать Вальзера в дешевом кафе среди жующих и пьющих и неспешно беседующих рабочих. Но тут дело не в скромных свойствах портрета. Дело в литературной повадке, роли. Понять роль Вальзера — Петрушка или Пьеро? простачок? вечный школяр-прогульщик? обличитель-бунтарь? богемный герой? блаженный? — было нельзя, и это мешало — популярности, славе, успеху. Потому что сознание публики жанрово, а что не укладывается в жанр, может рассчитывать на успех разве что у потомков. Вот одна из причин, по которой крупнейший швейцарский писатель нашего века был обречен на мизерные тиражи и горчайшую, беспросветнейшую нужду.
Но была причина и другая, более глубокая. Это — некоторая невнятность общественного задания того, что писал Вальзер. До нее докопался под конец жизни сам автор. Как-то беседуя на прогулке со своим другом и душеприказчиком писателем Карлом Зеелигом, он стал сравнивать свою литературную судьбу с судьбой Германа Гессе и заметил, что, в отличие от него, Гессе всегда был «социально функционален». Изобразительный захват Гессе действительно шире, а верный заветам гуманизма культуртрегерский пафос отчетливее, идейная программа призывнее и яснее. А стало быть, и путь к отклику короче. Для восприятия внешне незамысловатой, лишенной малейших претензий на общезначимость прозы Вальзера требовалось время. Оно наступило, когда Вальзера уже не было в живых. Теперь, спустя тридцать лет после его смерти, Вальзер может соперничать с Гессе по количеству изданий, по количеству исследований его творчества — статей, монографий, диссертаций. В наши дни книги Вальзера перестали быть достоянием литературных гурманов, — либо таких гурманов теперь стало столько, сколько было в начале века любителей детективного жанра.
Читать дальше