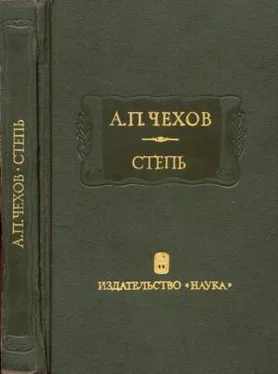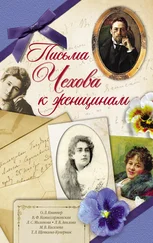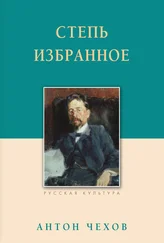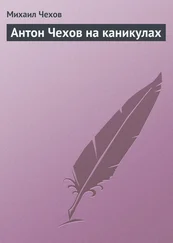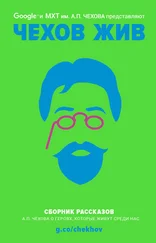Критика восприняла «Степь» как повесть не вполне удачную прежде всего потому, что не нашла в ней ничего злободневного. О ней писали профессиональные журналисты и литературные обозреватели того нелюбимого, хорошо знакомого Чехову типа, который упомянут в рассказе «Хорошие люди» (1886): «Это пишущий, к которому очень шло, когда он говорил «Нас немного!» или «Что за жизнь без борьбы? Вперед!», хотя он ни с кем никогда не боролся и никогда не шел вперед». Такая критика живет злобою дня, и это было бы вполне естественно, если бы не ограничивало так безнадежно весь ее кругозор, не отнимало бы у нее способность ценить прошлое и предвидеть будущее.
Злободневность является необходимой предпосылкой и условием существования и развития литературы, в истории которой каждое десятилетие оставляет для последующих какую-то свою, пусть иногда и бесконечно малую долю.
Сама по себе злободневность не хороша и не дурна, она в природе вещей; она становится безусловно дурной, когда противопоставляет себя былому, а тем самым и будущему. «Уважение к минувшему — вот черта, отличающая образованность от дикости», — сказал некогда Пушкин, напомнивший, что ложно понимаемая злободневность может вытеснить из литературы истинное содержание, без которого она в своих исторически значительных формах существовать не может («Наброски статьи о русской литературе», 1830). Об этом — в том же пушкинском смысле и на первых порах с той же тщетой — напоминал своим современникам Чехов.
Чтобы составить себе достаточно полное и достоверное представление о литературной моде той поры, нет нужды обращаться к старым журналам; достаточно перечитать Чехова — «На пути», например, где перечислены все увлечения идейной русской молодежи, от народничества до теории малых дел и толстовства, или тех же «Хороших людей», или «Дом с мезонином», или «Палату № 6». А «Черный монах»? Сколько сиюминутных тревог, неотложных идей и волнений — «все призраки пустые», но как они были всевластны в свое скоротечное время, как страшны!
В такие времена по-настоящему злободневным становится историзм, с которым Чехов шел в большую литературу: «Степь» и по авторскому замыслу, и по сути своей была обращением к памяти, личной и общерусской, она была напоминанием — вот причина, в силу которой она больше, чем другие повести Чехова и, может быть, больше, чем все, что появилось в литературе последних десятилетий XIX в., заслуживает название литературного памятника.
9
Чехов сказал о композиции «Степи»: «Каждая отдельная глава составляет особый рассказ, и все главы связаны, как пять фигур в кадрили, близким родством» (Д.В. Григоровичу, 12 января 1888 г. П., 2, 173). Подразумевал он, конечно, повторы и ритмические возвращения к сказанному ранее, к тому, что было уже на предыдущих страницах и для читателя миновало.
Яснее всего этот ритм отмечается чередующими обращениями к образу мельницы, на первых порах едва различимой на горизонте повествования. Издали она «похожа на маленького человечка, размахивающего руками». Двумя страницами ниже она все еще напоминает Егорушке того же маленького человечка. Затем, спустя еще две страницы, «мельница, машущая крыльями, приближается. Она становилась все больше и больше, совсем выросла, и уж можно было отчетливо разглядеть ее два крыла».
Страница кончается так: «…ветряк все еще не уходил назад, не отставал, глядел на Егорушку своим лоснящимся крылом и махал. Какой колдун!»
При внимательном чтении удается почувствовать этот подчиненный сильной художественной воле гул времени, его медлительный необратимый ход в великом степном пространстве, в дороге, которой не видно конца.
«Время в художественной литературе воспринимается благодаря связи событий — причинно-следственной или психологической, ассоциативной, — писал Д.С. Лихачев. — Это не только и не столько календарные отсчеты, сколько соотнесенность событий <���…> События в сюжете предшествуют друг другу и следуют друг за другом, выстраиваются в сложный ряд, и благодаря этому читатель способен замечать время в художественном произведении, даже если о времени в нем ничего специально не говорится». 80
Обоз шаг за шагом движется, мельница уходит за горизонт, исчезает из глаз; наконец, приезжают в город, где Егорушку — а вместе с ним и читателя — обступают другие картины, где для мельницы, казалось бы, и места не найти; но нет: «Тит на тонких ножках подошел к постели и замахал руками, потом вырос до потолка и обратился в мельницу».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу