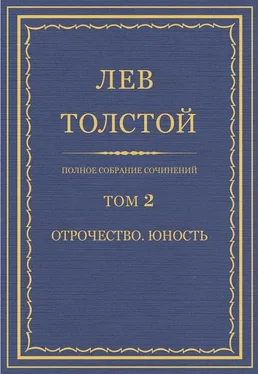То мне приходит мысль о Боге, и я дерзко спрашиваю Его, за что он наказывает меня? «Я кажется не забывал молиться утром и вечером, так за что же я страдаю?» Положительно могу сказать, что первый шаг к религиозным сомнениям, тревожившим меня во время отрочества, был сделан мною теперь, не потому, что бы несчастие побудило меня к ропоту и неверию, но потому, что мысль о несправедливости Провидения, пришедшая мне в голову в эту пору совершенного душевного расстройства и суточного уединения, как дурное зерно, после дождя, упавшее на рыхлую землю, с быстротой стало разрастаться и пускать корни. То я воображал, что я непременно умру, и живо представлял себе удивление St.-Jérôme’a, находящего в чулане, вместо меня, безжизненное тело. Вспоминая рассказы Натальи Савишны о том, что душа усопшего до сорока дней не оставляет дома, я мысленно после смерти ношусь невидимкой по всем комнатам бабушкиного дома и подслушиваю искренние слезы Любочки, сожаления бабушки и разговор папа с Августом Антонычем. «Он славный был мальчик», скажет папа со слезами на глазах — «Да — скажет St.-Jérôme — но большой повеса». — «Вы бы должны уважать мертвых — скажет папа — вы были причиной его смерти, вы запугали его, он не мог перенести унижения, которое вы готовили ему... Вон отсюда, злодей!»
И St.-Jérôme упадет на колени, будет плакать и просить прощения. После сорока дней, душа моя улетает на небо; я вижу там что-то удивительно прекрасное, белое, прозрачное, длинное и чувствую, что это моя мать. Это что-то белое окружает, ласкает меня; но я чувствую беспокойство и как будто не узнаю ее. Ежели это точно ты, говорю я, то покажись мне лучше, чтобы я мог обнять тебя. И мне отвечает ее голос: «здесь мы все такие, я не могу лучше обнять тебя. Разве тебе не хорошо так?» Нет, мне очень хорошо, но ты не можешь щекотать меня, и я не могу цаловать твоих рук... «Не надо этого, здесь и так прекрасно», говорит она, и я чувствую, что точно прекрасно, и мы вместе с ней летим всё выше и выше. Тут я как будто просыпаюсь и нахожу себя опять на сундуке, в темном чулане, с мокрыми от слез щеками, без всякой мысли, твердящего слова: и мы всё летим выше и выше. Я долго употребляю всевозможные усилия, чтобы уяснить свое положение; но умственному взору моему представляется в настоящем только одна страшно мрачная, непроницаемая даль. Я стараюсь снова возвратиться к тем отрадным, счастливым мечтам, которые прервало сознание действительности; но, к удивлению моему, как скоро вхожу в колею прежних мечтаний, я вижу, что продолжение их невозможно и, что всего удивительнее, не доставляет уже мне никакого удовольствия.
ГЛАВА XVI.
ПЕРЕМЕЛЕТСЯ, МУКА БУДЕТ.
Я ночевал в чулане, и никто не приходил ко мне; только на другой день, т. е. в воскресенье, меня перевели в маленькую комнатку, подле классной, и опять заперли. Я начинал надеяться, что наказание мое ограничится заточением, и мысли мои, под влиянием сладкого, крепительного сна, яркого солнца, игравшего на морозных узорах окон, и дневного обыкновенного шума на улицах, начинали успокоиваться. Но уединение всё-таки было очень тяжело: мне хотелось двигаться, рассказать кому-нибудь всё, что накопилось у меня на душе, и не было вокруг меня живого создания. Положение это было еще более неприятно потому, что, как мне ни противно было, я не мог не слышать, как St.-Jérôme, прогуливаясь по своей комнате, насвистывал совершенно спокойно какие-то веселые мотивы. Я был вполне убежден, что ему вовсе не хотелось свистать, но что он делал это единственно для того, чтобы мучить меня.
В два часа St.-Jérôme и Володя сошли вниз, а Николай принес мне обед, и когда я разговорился с ним о том, что я наделал, и что ожидает меня, он сказал:
— Эх, сударь! не тужите, перемелется, мука будет.
Хотя это изречение, не раз и впоследствии поддерживавшее твердость моего духа, несколько утешило меня, но именно то обстоятельство, что мне прислали не один хлеб и воду, а весь обед, даже и пирожное розанчики, заставило меня сильно призадуматься. Ежели бы мне не прислали розанчиков, то значило бы, что меня наказывают заточением, но теперь выходило, что я еще не наказан, что я только удален от других, как вредный человек, а что наказание впереди. В то время, как я был углублен в разрешение этого вопроса, в замке моей темницы повернулся ключ, и St.-Jérôme с суровым и официальным лицом вошел в комнату.
— Пойдемте к бабушке, — сказал он, не глядя на меня.
Я хотел было почистить рукава курточки, запачкавшиеся мелом, прежде, чем выйти из комнаты, но St.-Jérôme сказал мне, что это совершенно бесполезно, как будто я находился уже в таком жалком нравственном положении, что о наружном своем виде не стоило и заботиться.
Читать дальше